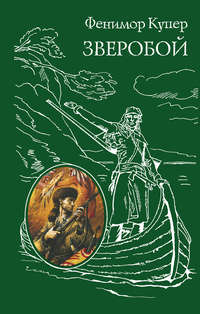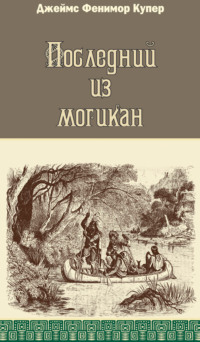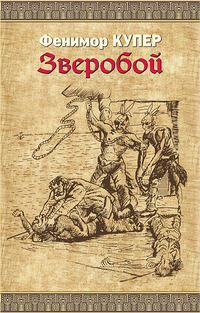На суше и на море. Сатанстое (сборник)
Теперь, когда опасность еще больше увеличилась, мы решили быть все время настороже, чтобы нас не застали врасплох. Каждый из нас знал, что ему делать в случае тревоги. Кроме того, мы все научились искусно подражать крику различных птиц, и эти крики должны были служить для нас сигналами, о которых мы заранее договорились. Этот способ сигналов изобретен был задолго до нас индейцами, которые весьма часто пользуются им.
Когда мы начали спускаться в овраг, то Сускезус и Прыгун шли по-прежнему вперед, мы же, вместо того чтобы идти гуськом, как до сих пор, теперь выстроились в одну шеренгу и шли плечо к плечу. Мрак и густолиственность деревьев в овраге делали эту предосторожность необходимой.
Мы спустились в овраг, прошли довольно большое расстояние и вдруг очутились возле Сускезуса и Прыгуна, которые все время шли впереди нас. Это произошло потому, что те внезапно остановились, потому что их зоркие глаза заметили признаки присутствия врага. Там, под сводом нависшей вперед скалы, человек сорок индейцев, в полном боевом снаряжении, развели костер и расположились кругом поужинать. Костер уже догорал, и его последние отблески слабым, дрожащим светом освещали мрачные фигуры краснокожих воинов, сидевших и лежавших крутом. Если бы мы пошли не здесь, то не могли бы их увидеть ниоткуда и нам не миновать бы опасности попасть в их руки. Но судьба привела наших предводителей на такое место, откуда они заметили догоравшие угли костра. Мы были не больше как в сорока шагах от него.
Поблизости шумно бежал поток. Сускезус предложил сделать маленький обход и переправиться через поток, шум которого мог служить нам защитой. Дно потока было в этом месте каменистое. Выбрав этот путь, мы оставляли гуронов позади себя, но они, вероятно, не успели бы закончить свой ужин, прежде чем мы доберемся до цитадели. Однако Гурт запротестовал.
– Как, – сказал он, – судьба поставила нас в такое положение, когда мы можем оказать огромную услугу нашим друзьям, внеся переполох в лагерь неприятеля, перепугав их мнимой вылазкой! Ведь тогда они, быть может, откажутся атаковать цитадель! И упустить подобный случай! Нет, это было бы положительно грешно.
Дирк и я поддержали его; даже Джеп встал на нашу сторону.
– Да, мистер Корни, это прекрасный случай отомстить за смерть бедного Петера, – сказал Джеп. – Мы им покажем себя!
Сускезус, как только узнал о нашем решении, ничего не возразил, но тут же стал готовиться к бою; Прыгун также.
План наш был чрезвычайно прост: мы должны были дать общий залп с того места, где сейчас находились, затем с громким криком кинуться на врага с холодным оружием в руках. Самое важное было не задумываться ни на минуту и не останавливаться рядом с костром, где, как ни слаб был его свет, мы все-таки могли быть узнаны, а миновав его, бежать напрямик к воротам Равенснеста.
Мы дали дружный залп почти все одновременно, затем, в ответ на поднявшийся у костра крик и смятение, ответили громким шумным криком и устремились на ошеломленных индейцев, рубя всех, кто попадался под руку, и направляясь к цитадели. В окружавшей нас темноте трудно было составить себе ясное представление о неожиданном нападении; помню только, что около нас и нам под ноги падали раненые или убитые, а мы перескакивали через них и опять кололи и рубили, и все бежали вперед. Через минуту мы оставили костер за собой; нам вдогонку послали несколько выстрелов наугад, но никого не ранили. До ворот нам оставалось не больше ста шагов, и каждый из нас спешил выбраться поскорее из оврага, кто как мог, так как во время нападения мы поневоле должны были действовать врассыпную. Поэтому с этого момента я могу говорить только о себе. Я видел, что какие-то люди, прячась за деревьями, скользят во мраке, как тени; я думал, что это мои товарищи, но не знал точно. Вновь зарядить свои карабины мы не могли, так как не было времени останавливаться. Я не мог выбраться из оврага в том месте, где бежал поток, и вынужден был взять немного в сторону, где и взобрался на маленькое возвышение. Это положение было весьма удобное, и я остановился на минуту зарядить свой карабин; в то же время я осматривался, желая определить, где я нахожусь.
Там, внизу, в долине, где были постройки колонистов, виднелось двенадцать или пятнадцать догорающих костров. Все это были хижины поселенцев или их риги и амбары. Но главное здание, то есть сама цитадель ничуть не пострадала; она стояла, грозная и мрачная, и так как не имела окон наружу, то виднелся только один слабый огонек, вероятно, в одной из бойниц, в качестве сигнала. И в самом здании, и кругом царила полная тишина; позади меня, в овраге, и за ним, в долине, тоже все было спокойно, но в этом спокойствии было что-то жуткое.
Оставаться больше на этой возвышенности было небезопасно, и я решил бежать со всех ног к воротам. Двумя прыжками я выбрался на равнину и увидел, что впереди меня бежали еще двое, из которых один как будто крепко вцепился в другого и держал его.
Так как оба направлялись к дому, то я окликнул: «Кто идет?»
– Ах, Корни, это вы! Ну слава богу! Вы как раз вовремя, чтобы помочь мне тащить этого гурона; я поймал его, обезоружил и взял в плен, но он упирается так, что сил моих нет. Помогите мне пинками или кулаками, как хотите!
Но я слишком хорошо помнил мстительность индейцев, чтобы решиться на подобные меры, и поэтому просто схватил пленника за руку повыше локтя и стал тащить и толкать вперед. Вскоре мы добрались до ворот, которые тотчас же открылись, и мы были встречены самим хозяином и десятком человек и вооруженных слуг.
Выстрелы привлекли внимание Германа Мордаунта, и он понял, что, значит, мы идем, и стоял все время у ворот наготове, чтобы впустить нас, как только мы к ним подойдем. Все мы добежали до ворот почти одновременно. Благодаря тому, что нападение было произведено нами так неожиданно, мы успели укрыться в цитадели. А когда ворота форта Равенснеста закрылись за нами, всякая немедленная опасность для нас миновала.
Нас ввели в большую, хорошо освещенную комнату, где мы встретили прелестную хозяйку Аннеке и ее подругу, обе они испытали мучительную тревогу, ожидая нас, но теперь, при виде нас здоровыми и невредимыми, заплаканные глазки их светились радостью, а уста улыбались счастливой улыбкой. Глядя на них, отвечая на их расспросы, мы на мгновение забыли целый мир. Но вот вошел Герман Мордаунт, видимо встревоженный, и сказал:
– Мы забаррикадировали ворота и только теперь спохватились, что еще не все ваши здесь. Я не вижу ни Траверса, ни его помощников, ни наших обоих охотников. Не остались же они там, в лесу?
Никто из нас не решился ответить, но, вероятно, Герман Мордаунт прочел этот ответ на наших лицах, потому что тотчас воскликнул:
– Не может быть! Как, неужели все?
– Все, мистер Мордаунт, все, и даже мой бедный негр Петер, – сказал Гурт. – Вероятно, застигнутые врасплох, все они были убиты в наше отсутствие!
Обе девушки на минуту закрыли лицо руками, и мне показалось, что побледневшие губы Аннеке шептали молитву. Мистер Мордаунт только вздохнул и некоторое время молча шагал по комнате, затем, сделав над собой усилие, чтобы казаться спокойным, произнес:
– Благодарение Богу, мистер Бельстрод прибыл вчера благополучно сюда; он очень желал вас всех видеть, как только вы будете здесь! Если хотите, я проведу вас к нему!
Мы, конечно, обрадовались, и нас проводили в комнату Бельстрода; майор принял нас в высшей степени сердечно, много говорил о печальном исходе кампании, о горьком разочаровании и об оскорблении, нанесенном английскому самолюбию; мы со своей стороны осведомились о его ране, которая, к счастью, оказалась пустяковой и в худшем случае могла заставить похромать его недели две-три, не больше.
– Не правда ли, Корни, – сказал он мне, когда другие ушли и мы с ним остались одни, – я ловко устроился, приказав отвезти меня сюда? Лучшего лазарета трудно и придумать. Теперь нашему благородному соперничеству открыто широкое поле действий, и если мы с вами покинем этот дом, не узнав истинных чувств к нам мисс Аннеке, то, значит, оба мы такие дураки, которые заслуживают быть обреченными на безбрачие на весь остаток своих дней! Ведь редко представляется более удобный случай овладеть сердцем девушки, чем нам с вами теперь!
– Признаюсь, мне данный случай не представляется очень удачным! – проговорил я. – Аннеке сейчас настолько встревожена за себя и за других, что ей не до нежных чувств; она думает теперь совсем о другом!
– Ах, Корни, сразу видно, что вы совершенно не знаете женщин! Может быть, вы были бы правы, если бы дело пришлось только сейчас начинать, но когда уже раньше было сделано начало, то, говорю вам, при этих условиях девушка становится мягче, доступнее; не больше, как через неделю, дело должно выясниться. И если я буду счастливым избранником, то могу вас заверить, Корни, что вы найдете во мне самое нежное сочувствие, точно так же, как я уверен в нем в противном случае. Впрочем, после этого злополучного поражения под Тикондерогой я примирился с поражениями!
Я не мог удержаться от улыбки, слушая это странное рассуждение о наших шансах на успех.
– Я не совсем вас понимаю, Бельстрод, – сказал я, – и почему вы данные условия считаете очень благоприятными?
– Да как же, друг мой! – воскликнул майор. – Аннеке, несомненно, любит одного из нас двоих. Что она любит, за это я готов положить руку в огонь: все в ней дышит любовью: и взгляд, и улыбка и вспышки румянца; и любит она непременно одного из нас. Я буду откровенен с вами, Корни, и не скрою, что, кажется, она предпочитает меня; но вместе с тем я готов поклясться, что и вы, со своей стороны, тоже думаете относительно себя!
– Вы ошибаетесь, мистер Бельстрод, могу вас заверить, подобной самонадеянности во мне нет.
– Ну да, конечно! Вы не достойны любви Аннеке Мордаунт; вы никогда не допускали мысли, чтобы она могла полюбить такое незначительное, жалкое существо, как вы, и тому подобное. Не правда ли? Да ведь, в сущности, я могу сказать то же самое, а в глубине души оба мы рассчитываем на ее любовь, не то мы не стали бы все это время вертеться около нее и ждать чего-то!
– Вы, может быть, имеете какие-нибудь основания рассчитывать на ее взаимность, но я, повторяю, не имею ни малейшей уверенности в ее расположении ко мне!
– Мои основания! Это просто мое самолюбие, известная доля которого должна быть у каждого человека, как для его собственного самоудовлетворения, так и для спокойствия духа. Надежда неразлучна с любовью, а надежда порождает самоуверенность. Рассуждение мое очень простое: я ранен. Прекрасно! Ранен в бою за родину и моего короля, это весьма почетно; меня приносят сюда на носилках в присутствии моей возлюбленной; она наглядно видит доказательство тех опасностей, которым я добровольно подвергал себя, и считает мое поведение геройским, как я надеюсь. И вы думаете, что всего этого недостаточно, чтобы подействовать на женщину и заставить ее высказаться в мою пользу? Разве вы не знаете, как быстро тают женские сердца на огне сострадания, чувствительности и великодушия, и когда они ухаживают за вами во время болезни, то из десяти случаев девять – их сострадание и сочувствие переходят в любовь. Моя рана – это мастерский прием, могу вас заверить, и я недаром к нему прибегнул, но согласитесь, что в любви, как и на войне, всякие хитрости допустимы!
– Я вполне понимаю вашу политику, Бельстрод, но не могу понять вашей откровенности. Конечно, вы можете быть уверены, что я не злоупотреблю ею! Я готов согласиться с вами, что ваша рана является большим козырем в вашей игре, но чем я могу похвалиться против вас?
– Чем? Ролью защитника, и эта роль, могу вас заверить, Корни, может очень многое сделать! Это проклятое нападение индейцев, говорят, довольно серьезное на этот раз, может в течение нескольких дней держать наших барышень в страхе, оно для меня крайне невыгодно, но зато очень выгодно для вас, потому что раненый совершенно стушевывается перед человеком, подвергающимся опасности быть убитым с минуты на минуту. Эта роль защитника превосходная, и я советую вам, по дружбе, использовать ее как можно лучше. Я не таюсь от вас, Корни, и честно говорю вам, что решил как только можно лучше использовать свою рану.
Трудно было не рассмеяться такому дружескому совету, по-видимому вполне искреннему. Проболтав с ним еще около получаса, я с ним простился, пожелав спокойной ночи.
– Не падайте духом, Корни! – сказал майор, пожимая мне руку. – Пользуйтесь своими преимуществами, как знаете и как умеете, потому что, повторяю вам, я, со своей стороны, сделаю то же самое! Таким образом будут состязаться мужество в прошедшем с мужеством в настоящем. Не будь я лично заинтересован, никому в мире не пожелал бы так от души удачи, как вам, мой добрый друг!
И действительно, я чувствовал, что Бельстрод говорит правду; при этом я видел также, что он чувствует себя уверенным в успехе.
Выйдя от него, я прошел в гостиную и по счастливой случайности застал там Аннеке одну. Гурт уговорил Мэри выйти пройтись вместе с ним по двору, а Дирк и мистер Вордэн совещались с хозяином дома и местными колонистами, укрывшимися в форте.
Под впечатлением разговора с Бельстродом я решил воспользоваться этим счастливым случаем. Его рана меня сильно тревожила; я сознавал, что это большой козырь в его руках и что жалость всегда играет большую роль в чувствах женщины. Что я, собственно, говорил Аннеке во время этого разговора, я едва помню, но во мне говорило самое горячее, самое искреннее чувство; мне хотелось так много сказать, так много выяснить, что вначале Аннеке не имела возможности вставить слово, но я видел, что она была взволнована и растрогана и слушала меня внимательно и благосклонно; когда я рискнул взять ее руку, она не отняла ее у меня; тогда я нашел такие слова, которые вызвали слезы у нее, и она наконец ответила:
– Вы выбрали странный момент, Корни, чтобы говорить о таких вещах, и я едва знаю, что вам ответить! Но мне кажется, что в такую минуту, когда со всех сторон грозит опасность, люди прежде всего должны быть искренними. Я знаю, что мы рискуем быть захвачены этими дикарями, которые кругом обложили наш дом и каждую минуту могут ворваться сюда и умертвить всех нас. Никто из нас не может сказать с уверенностью, что завтра будет жить, и поэтому в случае, если бы с вами, Корни, случилось что-нибудь, а я осталась жить, то весь остаток жизни моей был бы отравлен сознанием, что я не решилась признаться вам в том хорошем чувстве, которое вы давно уже сумели внушить мне к себе, и утаила от вас то счастье, какое испытала, когда несколько месяцев тому назад вы так честно и откровенно признались мне в своих чувствах!
Не понять значения этих слов было совершенно невозможно, тем более что тихие слезы и полное любви выражение ее чудных глаз подтверждали смысл ее речи.
Больше часа мы провели с Аннеке вместе, мы не замечали времени, перебирая все прошедшее, столь дорогое для нас обоих, и Аннеке созналась, что она часто думала о том смелом маленьком мальчугане, который так геройски заступился за нее, когда она была еще крошечной девочкой. Затем она сказала, что Бельстрод, этот столь опасный в моих глазах соперник, никогда не внушал ей иных чувств, кроме чисто родственных. Бедный Бельстрод! Я положительно был опечален за него и не мог удержаться, чтобы не высказать этого Аннеке.
– Не беспокойтесь о нем, – сказала она с лукавой улыбкой, – он, конечно, переживет неприятный момент укола его самолюбия, но затем будет рад, что не дал воли своему мимолетному капризу, внезапно вспыхнувшим чувствам к молодой американке, которая, быть может, была бы совершенно не на своем месте в том блестящем кругу, где должна вращаться его жена. Возможно, что в настоящее время он предпочитает меня всем другим девушкам, которых он знает, но его привязанность, – если то чувство, которое он питает ко мне, заслуживает этого названия, – не похоже на ваше, Корни! Это чувство исходит из глубины его души, я это чувствую; в этом женщины почти никогда не ошибаются.
Помолчав немного, я заговорил о Гурте и о его чувствах к Мэри Уаллас и спросил, неужели его чувство, столь сильное и искреннее, как и мое, не встретит никогда взаимности.
– Позвольте мне, Корни, ничего вам на это не ответить: всякая женщина хочет быть свободной в выборе своей судьбы и всегда держит свои намерения в секрете, но даже в том случае, если бы намерения Мэри были мне известны, я никогда не сочла бы себя вправе говорить о них. Лично не имея больше никаких тайн от Корни Литтлпейджа, я не вправе выдать другую, как выдала себя!
Мне пришлось удовлетвориться этим ответом и сладким сознанием, что я давно любим. Когда Аннеке ушла и я остался один, я был до того ошеломлен происшедшим, что с трудом мог себя успокоить, что все это был не сон.
Но Бельстрода мне было глубоко жаль, скажу даже, болезненно жаль: бедняга был так уверен в успехе, всего какой-нибудь час или два тому назад, и я чувствовал, что у меня положительно не хватит духа сказать ему о том, что произошло.
Гурт Тэн-Эйк вернулся с прогулки с Мэри Уаллас более печальный и огорченный, чем когда-либо.
– Я думал, – сказал он, – что в этот момент общей опасности она наконец откроет мне свое сердце или хоть даст мне маленькую надежду. Но нет! Все, что мне удалось добиться от нее, это замечание, что данный момент совершенно неудобен для таких разговоров. И право, мне кажется, я готов сейчас бежать в лагерь этих распроклятых гуронов, чтобы они убили меня, но вместе с тем я думаю, что все-таки она все это время слушала меня, хотя я говорил ей только об одном, о моем чувстве к ней; ведь это же все-таки утешительно!
Это была правда, но мне невольно напрашивалось сравнение этого поведения Мэри Уаллас с откровенным и чистосердечным признанием Аннеке, и я от души пожалел моего доброго, благородного друга.
Глава XXVIII
Как мало знаем мы, что мы есть, и как неизмеримо меньше знаем мы то, чем мы будем. Река времен течет беспрерывно и уносит один за другим наши мыльные пузыри, которые лопаются, едва родившись, а государства вздымаются высоко, как волны, чтобы снова их поглотила бездна!
БайронГерман Мордаунт заявил, что все могут спать спокойно, так как установлен ночной дозор. Но в Равенснесте было теперь так много народа, что трудно было найти местечко, где бы можно было кинуть охапку соломы, которая должна была служить нам постелью. Впрочем, мы до того устали, что, несмотря на все пережитое за этот день, кое-как приткнулись и заснули как убитые.
Было около трех часов ночи, когда Язон Ньюкем разбудил меня и других мужчин. За несколько минут все были на ногах и вооружены.
Так как индейцы всегда совершают свои нападения перед утром, когда обыкновенно сон у человека намного крепче, то это распоряжение Германа Мордаунта не удивило никого. Пока он стоял, наблюдая за тем, что происходило за стенами форта, мы все собрались во дворе и ожидали его распоряжений; всех нас было двадцать четыре человека.
Язон прекрасно выполнил возложенное на него поручение, то есть разбудил всех мужчин, не потревожив сна ни одной женщины, и очутившись возле бывшего педагога и теперешнего мельника, я похвалил его за ловкость, проявленную им в данном случае; между нами завязался разговор.
– Я полагаю, Корни, что эта война может повлечь за собой некоторые изменения в правах владения участками!
– Не вижу, каким образом это может случиться, мистер Ньюкем, если только вы не рассчитываете, что французы отнимут у нас эту колонию, что весьма невероятно!
– Я не думал о французах. Но разве гуроны не завладели в данный момент всей этой землей, кроме этого форта? Надеюсь, против этого спорить нельзя?!. Если же мы прогоним их и вновь овладеем этой землей и нашими участками, то это будет, так сказать, вновь отвоеванная земля, а завоевание дает право завоевателю на завоеванную территорию, так сказано в законах!
Эту речь Язон клонил к тому, чтобы утвердить свои права собственности на мельницу и участок, арендованный им у мистера Мордаунта. Это был, так сказать, план, задуманный Язоном, лишить Мордаунта его собственности и присвоить этот мельничный участок себе.
Однако мне не удалось ничего возразить ему на это, так как появился мистер Мордаунт и стал рассказывать нам план защиты нашей цитадели. Как и следовало ожидать, индейцы прибегли к единственно возможному, при отсутствии артиллерии, плану атаки: они готовились поджечь ограду и ворваться в дом. С этой целью они на протяжении всей ночи собирали горючий материал и сваливали его у самой деревянной ограды почти на всем ее протяжении.
Работа эта производилась очень остроумно. Один из наиболее ловких, смелых и проворных индейцев подбирался к самой стене вплотную и, присев там на корточки так, чтобы быть совершенно недоступным глазу неприятеля, принимал подаваемые ему на длинном шесте корзины с горючим материалом – сосновыми шишками, валежником и тому подобным, и раскладывал их под стеной. Для большего успеха в работе товарищи поджигателя выстроились в два ряда, один ряд внизу на ровном месте, другой – на скалах, на которых был построен форт, а остальные доставляли материал из леса в первую линию, которая, насадив корзины на шесты, передавала их во вторую линию, а та в свою очередь – главному поджигателю. Таким образом, все стояли на своих местах, не теряя времени на ходьбу или беготню взад и вперед, и работа шла регулярно, как бы с помощью механизма.
Эту ловкую махинацию открыл Сускезус, часовые же ее просмотрели. Зная нрав индейцев, а в особенности зная Мускеруска, он был уверен, что ночь у них не пройдет в бездействии. Самым слабо защищенным местом цитадели была, несомненно, сторона ее, обращенная к скале, где имелась лишь невысокая деревянная стена, помимо естественной защиты, то есть самой скалы, которая, однако, не могла считаться неприступной. Поэтому Сускезус ничуть не сомневался, что нападение будет произведено именно с этой стороны. Стоя здесь настороже, он заметил приготовления гуронов к поджогу, но, зная поспешность и нетерпеливость бледнолицых, не сказал об этом никому ни слова, пока гуроны не закончили почти всей работы. Если бы им помешали в ней в самом начале, они надумали бы что-нибудь другое, быть может, такое, что труднее было бы заметить и что ускользнуло бы от внимания осажденных; теперь же, предоставив им возможность вложить свои силы в эту работу, Сускезус мог всегда успеть предупредить Мордаунта о намерении гуронов и в последний момент помешать осуществлению их планов.
Теперь предстояло решить, как нам поступить, попытаться ли застрелить смельчака-поджигателя и сделать вылазку, чтобы уничтожить его работу, или же предоставить ему возможность поджечь, а затем только показаться неприятелю?
В стене накануне была проделана маленькая бойница, через которую можно было видеть груду материала для поджога, и я побежал к этой бойнице посмотреть, что происходило за стеной. Бойница находилась на уровне второго этажа дома, и хотя ночь была темная, но груды хвороста, валежника и шишек, сложенные у самой стены, под бойницей, можно было различить, а также и фигуру индейца, который в тот момент, когда я выглянул из бойницы, присев на корточки, старательно разжигал еловые шишки. Гурт был возле меня, и мы оба с напряженным вниманием следили за гуроном; у нас под рукой был достаточно большой запас воды, чтобы при желании залить огонь прежде, чем он успеет охватить очень большое пространство.
Так как мы смотрели сверху, то не могли разглядеть лица поджигателя, но когда он поднял голову и посмотрел наверх, следя за пламенем, мы оба узнали в нем свирепого Мускеруска, пленника Джепа. Гурт не выдержал и, высунув дуло своего карабина в бойницу, выстрелил в него, даже не дав себе труда хорошенько прицелиться. Этот выстрел стал как бы сигналом, от которого все мгновенно пришло в движение. Мускеруск в первый момент был как бы ошеломлен этим выстрелом, но затем, издав свой военный клич, как лань, большими прыжками кинулся от стены к своим. Одновременно с этим как из-под земли выросли сотни краснокожих воинов, оглашавших воздух пронзительным, оглушительным криком, они бегали, скакали, прыгали так, что рябило от них в глазах, и казалось, что их тут сотни и тысячи, но вместе с тем они как будто не намеревались атаковать нас, а только метались как угорелые во все стороны, бегали крутом и во всех направлениях, приплясывали и кривлялись с невероятным, чисто обезьяньим проворством и ужимками, время от времени стреляя наугад и, очевидно, выжидая, когда пламя сделает свое дело.
Герман Мордаунт сохранял удивительное спокойствие, женщины тоже вели себя геройски: ни криков, ни жалоб, ни отчаяния, ни даже проявления страха; некоторые из жен колонистов даже вооружились карабинами и совершенно бесстрашно готовились постоять за себя и за своих детей.
Прошло около четверти часа с того времени, как выстрелил Гурт. Огонь стал разгораться, и наши запоздалые усилия потушить его не привели ни к чему. Но это нас не особенно огорчало, так как пламя освещало далеко всю равнину и скалы, а следовательно, и малейшее движение неприятеля, тогда как нас за стеной не было видно; к тому же с равнины стрелять по ним не было никакой возможности, обстреливать же дом не имело смысла, так как толстые бревенчатые стены его были со всех сторон глухие, а двор, где мы, защитники цитадели, собрались, был со всех сторон защищен домом.