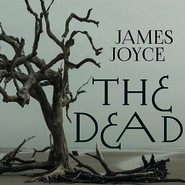По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дублинцы (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда подошло время для председательствующего подвести итоги и предложить резолюцию собрания, настала, как обычно, пауза. Воспользовавшись ею, патер Батт поднялся и испросил позволения сказать несколько слов. Аудитория возбужденно зааплодировала, настраиваясь услышать обличение ex cathedra. Патер Батт принес извинения, сопровождаемые возгласами «Нет, нет», в том, что задерживает собравшихся в столь поздний час, однако он полагал своим долгом замолвить слово в защиту докладчика, на долю которого выпало столько поруганий. Он был готов выступить «адвокатом дьявола», и он сознавал все неудобство этой роли, тем паче что один из ораторов, и не без оснований к тому, описал язык, в который облечен был доклад мистера Дедала, как язык ангелов. Мистер Дедал представил чрезвычайно яркий доклад, доклад, который собрал полную аудиторию и удерживал ее внимание, породив оживленную дискуссию. Разумеется, невозможно, чтобы «в вопросах искусства» все были одного мнения. Мистер Дедал исходил из того, что конфликт между романтиками и классицистами есть условие всякого достижения и продвижения, и в этот вечер мы получили неоспоримое доказательство, что конфликт между противоборствующими теориями способен породить столь различные достижения, как сам доклад – безусловно, замечательная работа, – с одной стороны, и достопамятная атака на него, совершенная лидером оппонентов, мистером Хьюзом, – с другой стороны. По его мнению, некоторые из выступавших были незаслуженно суровы к докладчику, но ему было ведомо, что по части доводов в споре докладчик весьма способен постоять за себя. По поводу же самой теории отец Батт признался, что для него было настоящей новостью услышать, как Фому Аквинского цитируют в качестве авторитета в области эстетической философии. Эстетическая философия – новая дисциплина, и если она вообще что-либо представляет собой, то как дисциплина практическая. Аквинат бегло затрагивал тему о прекрасном, но всегда лишь с теоретической точки зрения. Чтобы толковать его положения в практическом смысле, надо иметь более полные знания обо всей его теологии, нежели те, какими мог обладать мистер Дедал. Вместе с тем он не пошел бы так далеко, чтобы утверждать, что мистер Дедал и вправду исказил учение Аквината, вольно или невольно. Но, как поступок, что сам по себе мог бы быть благим, может оказаться дурным в силу обстоятельств, так же точно предмет, внутренне прекрасный, с иных точек зрения может нести в себе порчу. Мистер Дедал избрал путь внутреннего рассмотрения прекрасного, отбросив эти иные точки зрения. Однако у красоты есть и практическая сторона. Мистер Дедал – страстный почитатель художественного, а такие люди отнюдь не всегда оказываются и самыми практическими людьми на [белом] свете. Здесь патер Батт напомнил слушателям историю про короля Альфреда и старушку, которая пекла пироги, – как раз про теоретика и практика – и выразил в заключение надежду, что докладчик, следуя примеру короля Альфреда, не будет слишком суров к тем практикам, которые критиковали его.
Председатель в заключительном слове выразил похвалу докладчику за его стиль, но сказал также, что докладчик явно забыл о принципе, согласно которому искусство предполагает отбор. Он находит, что обсуждение доклада было весьма поучительным и выражает уверенность, что все присутствующие благодарны отцу Батту за его ясную и отточенную критику. Мистер Дедал подвергся несколько суровому обхождению, но, с учетом многих блестящих достоинств его доклада, он (председатель) полагает, что есть полные основания предложить собравшимся членам Общества выразить единодушную и глубокую благодарность мистеру Дедалу за его превосходный и содержательный доклад! Предложение было принято единогласно, хотя и без особого энтузиазма.
Стивен, поднявшись, поклонился. Было в обычае, чтобы докладчик использовал этот момент для ответа критикам, но Стивен удовольствовался ответом на выражение благодарности. Кое-кто призывал его высказаться, но после того, как председатель выждал с минуту безрезультатно, заседание быстро завершилось. Не прошло и пяти минут, как Физическая аудитория опустела. Внизу в вестибюле молодые люди деловито надевали пальто и закуривали. Стивен огляделся кругом в поисках отца и Мориса и, не увидев их, отправился домой в одиночестве. На углу Стивенс-Грин ему повстречалась группа из четырех юношей – Мэдден, Крэнли, студент-медик, которого звали Темпл, и один клерк, служивший в таможне. Мэдден взял Стивена под руку и сказал утешительным тоном, втихомолку от других:
– Ну вот, старина, я же говорил, что эти чурбаны не поймут. Для них это слишком здорово.
Стивена тронуло это дружеское участие, но он покачал головой в знак того, что хотел бы переменить тему. К тому же он знал, что Мэдден, в действительности, понял в докладе очень мало и того, что понял, не одобрял. Когда Стивен поравнялся с четверкой, они брели медленно по улице, обсуждая вылазку в Уиклоу, которую намечали на Святой Понедельник. Стивен шел по обочине тротуара рядом с Мэдденом, так что вся компания продвигалась по широкому тротуару в одну шеренгу. Крэнли, идущий в центре, держал под руку Мэддена и клерка с таможни. Стивен рассеянно прислушался. Крэнли изъяснялся (как было в обычае у него, когда он на досуге прогуливался с товарищами) на некоем языке, в основе которого была латынь, а суперструктура заимствовалась из ирландского, французского и немецкого:
– Atque ad duas horas in Wicklowio venit.
– Damnum longum tempus prendit, – откликнулся клерк с таможни.
– Quando… то есть… quo in… bateau… irons-nous? – спросил Темпл.
– Quo in batello? – спросил Крэнли. – In «Regina Maris»[23 - – И прибывает в Уиклоу в два часа.– Это занимает чертовски долго […]– Когда […] на каком (лом. лат.) пароходе мы поедем? (фр.)– На каком пароходе? […] На «Королеве морей» (лом. лат.).].
Итак, немного посовещавшись, молодые люди решили отправиться в Уиклоу на «Королеве морей». Внимать этому разговору было для Стивена большим облегчением: через несколько минут он уже перестал так остро чувствовать язвящую боль своего «крушения. Крэнли, заметив наконец идущего по обочине тротуара Стивена, произнес:
– Ессе orator qui in malo humore est.
– Non sum, – парировал Стивен.
– Credo ut estis, – возразил Крэнли.
– Minime.
– Credo ut vos sanguinarius mendax estis quia facies vestra mostrat [sic] ut vos in malo humore estis»[24 - – А вот оратор, который в дурном настроении.– Вовсе нет.– Я думаю, что в дурном.– Минимально.– Я думаю, что ты треклятый лгун, поскольку лицо твое говорит, что ты в дурном настроении (лом. лат.).].
Мэдден, не вполне владевший этим наречием, вернул компанию к английскому. У клерка с таможни засело, по-видимому, в голове, что он должен выразить восхищение стилем Стивена. То был высокий молодой человек крепкого сложения, полнолицый; в руке он держал «зонтик». Он был на несколько лет [моложе] старше всех своих сотоварищей, но принял решение подготовиться для получения степени по отделению философии и морали. Он всюду сопровождал Крэнли, и красноречие последнего как раз и было причиной, заставившей его посещать вечерние занятия в колледже. Крэнли проводил большую часть времени, убеждая молодых людей переменить курс своей жизни. Клерка с таможни звали О’Нил. Он был славный малый, всегда отзывавшийся астматическим смехом на невозмутимые розыгрыши Крэнли, но больше всего его интересовали сведения о любой возможности умственного совершенствования. Он ходил на заседания дискуссионного общества и студенческого братства, поскольку благодаря этому был «в курсе» университетской жизни. Будучи осторожным и осмотрительным, он тем не менее позволял Крэнли «поддевать» его по поводу девушек. Стивен попытался уклонить компанию от пересудов по поводу его доклада, однако О’Нил воспринял тему как случай, которым необходимо воспользоваться. Он начал задавать Стивену вопросы в духе тех, что можно найти в альбомах признаний юных девиц, и Стивену подумалось, что умственные небеса его должны весьма походить на галантерейный магазин. Темпл был цыганского вида неотесанный юнец со спотыкающейся походкой и такою же спотыкающейся речью. Он был с Запада страны и слыл за ярого революционера. После того как О’Нил беседовал некоторое время с Крэнли, получая от него более вежливые ответы, чем от Стивена, Темпл после нескольких фальстартов вставил-таки фразу:
– По-моему… чертовски шикарный был доклад.
Крэнли с холодной миной повернул лицо к говорящему, однако [О’Нил] Темпл продолжил:
– Как он энтих расшевелил.
– Habesne bibitum?[25 - Ты подвыпил? (лом. лат.)] – спросил Крэнли.
– Извиняйте, сэр, – спросил [О’Нил] Темпл у Стивена через головы шедших между ними, – а вы в Иисуса верите?.. Я вот не верю в Иисуса, – добавил он.
Тон этого заявления вызвал громкий смех Стивена, и смех продолжился, когда Темпл пошел спотыкаться чрез некое подобие извинений:
– Так я ж не знаю… если вы в Иисуса верите… Вот я верю в Человека… Если вы верите в Иисуса… оно конечно… Негоже мне было приставать сразу как вас увидел… вы так небось располагаете?
О’Нил хранил торжественное молчание до тех пор, пока речь Темпла не перешла в невнятное бормотанье; затем он сказал таким тоном, как будто бы начинал совершенно новую тему:
– Меня до крайности заинтересовал ваш доклад, а также и речи… Что вы думаете о Хьюзе?
Стивен не ответил.
– Жулик паршивый, – сказал Темпл.
– Я думаю, его речь была самого дурного вкуса, – с сочувствием сказал О’Нил.
– Bellam boccam habet, – произнес Крэнли.
– Да, он хватил через край, пожалуй, – сказал Мэдден, – но, знаете, это энтузиазм, бывает, его заносит.
– Patrioticus est[26 - Хорошо говорит. […] Он патриот (лом. лат.).].
– Раз орет – патриот! – сказал с визгливым смехом О’Нил. – Зато речь Батта была, по-моему, отличной – такая ясная, философская.
– А вы считаете так? – крикнул Темпл Стивену с середины тротуара. – Звиняйте… я хочу знать, чего он думает насчет речи Батта, – объяснял он одновременно троим [четверым] остальным… – Вы не считаете… что он тоже жулик паршивый?
Услыхав эту новую форму обращения, Стивен не мог удержаться от смеха, хотя речь патера Батта вызвала у него настроение, крайне далекое от благодушия.
– Да это те же самые штуки, какими он начиняет нас каждый день, – сказал Мэдден. – Знаем мы этот стиль.
– Его речь меня раздражила, – сухо произнес Стивен.
– А с чего? – спросил живо Темпл. – С чего она раздражила вас?
Вместо ответа Стивен состроил гримасу.
– Речь жулика паршивого, – сказал Темпл, – … а я вот рационалист. Я в эту религию ни в какую не верю.
– Я думаю, в некой части речи у него были добрые намерения, – медленно проговорил Крэнли после небольшой паузы, всем лицом повернувшись к Стивену. Стивен ответно поднял свой взгляд, [и встретил] твердо посмотрев в его блестящие черные глаза, и в то мгновение, когда взгляды их встретились, он ощутил надежду. Фраза не содержала ничего ободряющего; он весьма сомневался в ее истине; и все же он знал, что его коснулась надежда. В задумчивости он продолжал шагать рядом с четверкой юношей. На одной из бедных улиц, где они проходили, Крэнли остановился перед витриной небольшой лавочки с мелочным товаром, недвижно уставившись в старый пожелтевший номер «Дейли Грэфик», косо висевший за стеклом. Иллюстрация представляла зимний пейзаж. Никто не сказал ни слова, и поскольку молчание казалось воцарившимся надолго, Мэдден спросил, на что он смотрит. Крэнли посмотрел на спрашивающего и снова вернулся взглядом к пыльной картинке, мотнув тяжко головой в ее направлении.
– Чего там… чего там? – спросил Темпл, который разглядывал какие-то холодные crubeens[27 - Свиные ножки (ирл., верное написание cruibins).] в соседней витрине.
Крэнли вновь повернул отсутствующее лицо к спрашивавшему его и указал на картинку со словами:
– Feuc an eis super stradam… in Liverpoolio[28 - – Видите, лед на улице… в Ливерпуле (гэл., нем. и лат., верное написание feuch).].
Семейный круг Стивена между тем расширился благодаря возвращению Айсабел из монастыря. С некоторых пор ее здоровье ухудшилось, и монахини решили, что ей необходим домашний уход. Она вернулась домой через несколько дней после знаменательного события Стивенова доклада. Стоя у небольшого переднего окна, смотревшего на устье реки, Стивен увидел родителей, выходивших из трамвая; между ними шла худенькая бледная девочка. Отцу Стивена вовсе не улыбалось появление лишнего обитателя в доме, тем более дочери, которую он не слишком любил. Его раздражало, что возможность пребывания дочери в монастыре останется неиспользованной, но его чувство общественных приличий и долга было реальным, хотя и находящим приступами, и он ни за что бы не допустил, чтобы жена одна, без его помощи, отправилась забирать дочь домой. Его взгляд в будущее омрачался размышлениями о том, что дочь станет ему помехой, а не помощницей, а также и подозрением, что бремя ответственности, которое он благочестиво взвалил на плечи старшего сына, начинает этого юношу тяготить. Ему нравились, пожалуй, контрасты, и потому он ждал от своего отпрыска трудолюбия и трезвости, [и] однако нельзя сказать, чтобы он слишком желал обратного материального возвышения. От сына он всего лишь желал, чтобы тот вновь, в тисках обстоятельств, утвердил дух некоего неосязаемого превосходства, и за это Стивен давал ему условное оправдание. Но эта тонкая нить союза между отцом и сыном была порядком истрепана в испытаниях повседневности, и по причине ее хрупкости, а также и [неспособности] постепенного ржавения, начавшего разъедать ее верхний край, сигналы, передававшиеся по ней, делались все слабее и малочисленней.
Отец Стивена был вполне способен уговорить себя поверить тому, что было, как сам же он знал, неправдой. Он знал, что его разорение было делом его собственных рук, однако уговорил себя поверить, что то было дело рук других. Он питал то же отвращение к ответственности, что и его сын, не имея того же мужества. Он был из тех сумасбродных умников, у которых никакие доказательства не в силах победить первого впечатления. Его жена исполняла свой долг пред ним с поражающею буквальностью и тем не менее никогда не могла искупить греха своего происхождения. Расхожденья такого рода считают естественными в высших классах общества, однако ошибочно не признают их существования в мещанском сословии, где они зачастую выливаются в семейные раздоры с тупой, ненасытной ненавистью. Мистер Дедал ненавидел девичью фамилию своей жены с некой средневековой истовостью: она несла зловоние для ноздрей его. Узы союза с ней были единственным злом, в котором он, в полнейшей честности своей трусости, мог себя укорить. Теперь, когда он вступал в закатные года жизни, болезненно сознавая, что расточил удобные блага и накопил неудобные привычки, он обретал себе утешение и отмщение в тирадах столь бесконечных и столь часто повторяемых, что возникала опасность его превращения в маньяка. Вечерами его очаг становился сакраментальным свидетелем того, как эти отмщения вынашивались, бормотались, ворчались и извергались. Исключение в пользу жены, которое первоначально делалось его милосердием, вскоре исчезло из головы у него, и жена начала раздражать его символичностью своей покорности. Великий крах его жизненных надежд усугублялся утратой менее крупной и более острой – утратой чаемой славы. Имея некоторый доход и некоторые светские таланты, мистер Дедал привык считать себя центром какого-то малого мирка, любимцем какого-то небольшого общества. Он еще силился удержать это положение, но делал это ценой такой безрассудной широты, от которой его домашним приходилось страдать и материально и духовно. Ему рисовалось, что, пока он силится сохранять это иллюзорное положение, домашние дела его, чрез воздействие сына, понять которого он не делал никаких усилий, неким божественным образом исправятся. Когда он предавался этой надежде, она порой вносила враждебность в его чувство к сыну, которого он тем самым признавал имеющим превосходство над собой, однако ныне, когда ему приходилось подозревать надежду в напрасности, присутствие враждебности в этом чувстве делалось, судя по всему, одною из постоянных вех его эмоционального ландшафта. Понятие об аристократии, бывшее у сына, было отнюдь не тем, к какому он мог присоединиться, а молчание сына во время домашних баталий ему уже больше не казалось знаком согласия. Он был, на поверку, достаточно проницательным, чтобы заметить здесь скрытую угрозу для своих прав сеньора, и он не ошибся бы, решив, что сын рассматривает [эти] свое присутствие во время этих фальшивых и непристойных монологов как дань, взимаемую отцом в обмен на снабжение своевольного чада средствами существования…
Стивен принимал своих родителей не слишком всерьез. По его мнению, они установили с ним неправильные и неестественные отношения, и он полагал, что их привязанность к нему уравновешивается с его стороны внимательным обхождением с ними и искреннею готовностью оказывать им множество таких материальных услуг, которые, в своем нынешнем состоянии воинствующего идеализма, он мог рассматривать свысока как мелочи. Единственными материальными услугами, в которых он отказал бы им, были те, что он находил духовно опасными, и, как надлежит признать, его милосердие почти сводилось к нулю этим исключением, поскольку он культивировал независимость души, с которою могли совмещаться лишь очень немногие подчиненности. Божественные образчики укрепляли в этом его. Фраза, которую проповедники превращают в заповедь повиновения, казалась ему скудной, ироничной и недостаточно определенной, а рассказ о жизни Иисуса не оставлял у него впечатления [с] рассказа о жизни того, кто повиновался другим. Когда он был католиком в подлинном смысле слова, фигура Иисуса всегда казалась ему слишком «далекой и бесстрастной,» и из сердца его никогда не излилось ни единой пылкой молитвы к Искупителю: лишь Марии, как слабейшему и более влекущему сосуду спасения, вверял он свои духовные дела. Теперь его раскрепощение от дисциплины Церкви, казалось, совпадало с [естественным] инстинктивным возвращением к Основателю таковой, и этот импульс, возможно, привел бы его к признанию достоинств протестантизма, если бы другой естественный импульс не побуждал его упорядочивать даже то, что было самопротиворечащим и абсурдным. К тому же он не знал, не обязано ли папство своим высокомерием самому Иисусу в той же мере, как нежеланию и несогласию заходить в какой бы то ни было теме дальше «Аминь, глаголю вам»; но зато он был совершенно уверен в том, что за криптическими речениями Иисуса стояла гораздо более определенная концепция, нежели все те, что могли, при любых ожиданиях, открываться за протестантским богословием.
– Занеси в свой дневник, – сказал он всезаписывающему Морису. – Протестантская ортодоксия – как собачка Ланти Макхейла, что каждому хвостиком виляет.
– Мне кажется, эту собачку дрессировал апостол Павел, – ответил Морис.
Зайдя однажды случайно в колледж, Стивен обнаружил Макканна, стоящего в вестибюле с длинным адресом в руках. Другая часть адреса лежала на столе, и почти все студенты колледжа, подходя, ставили под адресом свои подписи. Макканн красноречиво ораторствовал перед небольшой собравшейся группой, и Стивен узнал, что адрес был приветствием студентов Дублинского университета русскому царю. Мир во всем мире; разрешение всех конфликтов через третейский суд; всеобщее разоружение наций – таковы были те благодеяния, за которые студенты слали свою благодарность. На столе были выставлены две фотографии, одна – русского царя, другая – редактора «Ривью оф ривьюз»; на обеих стояли подписи этой знаменитой четы. Макканн стоял боком к свету, и Стивена позабавило замечавшееся сходство между ним и миролюбивым императором, который был снят в профиль. Вид осоловелого Христа, который имел царь, пробудил в нем презрение, и он обернулся, ища поддержки, к стоявшему у дверей Крэнли. На голове у Крэнли была сильно перепачканная шляпа желтой соломки в форме перевернутого ведра, и под ее укрытием лицо его застыло в матово-тусклом спокойствии.
– Похож на плаксивого Джейсуса, правда? – спросил Стивен, показывая на фотографию царя и пользуясь дублинским вариантом имени как выразительного общеизвестного существительного[29 - «Дублинский вариант» Джейсус (Jaysus) включает игру слов: jay – модник, щеголь.].