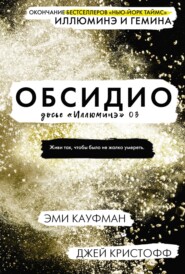По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Империя вампиров
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Если я от греха, то грех этот – твой. То, что ты имел глупость обрюхатить девушку вне брака, еще не значит…
Договорить я не успел: папа ударил быстро, как и сотни раз до этого. Мама закричала, но в ту ночь кулак цели не достиг. Я перехватил его у самого лица. Папа был ниже ростом, но вот ручища у него была толстенная, что жена пекаря. Он бы прихлопнул меня, как муху, но я оттолкнул его. В голове застучало. И когда папа, уставившись на меня от удивления, треснулся башкой об очаг, мне застило глаза: он рассадил кожу на голове и рухнул, а на полу стало расползаться ярко-красное лоснящееся пятно.
Кровь.
Казалось бы, что такого? Я и прежде видел кровь: размазанную по сломанным пальцам и опухшему лицу. Просто раньше не замечал, какого она яркого цвета, не слышал пьянящего запаха: соль, железо и аромат цветов, – и все эти ощущения переплелись с гимном грохочущего сердца. В горле пересохло, язык стал как старая кожа, в животе от голода будто разверзлась пропасть. Я протянул к расползающемуся пятну дрожащую руку.
– Габи? – шепнула Селин.
– Габриэль! – закричала мама.
И будто чары, что рушатся с пением петуха, все прошло: боль, сухость, жажда. У меня дрожали ноги; я посмотрел мама в глаза. Увидел по взгляду, что у нее есть некий секрет. Ужасное бремя, становившееся от года к году тяжелее.
– Что со мной, мама?
Она лишь покачала головой и опустилась на колени возле папа.
– В тебе это есть, Габриэль. Я надеялась… молила Бога, чтобы сие миновало.
– Да что во мне такого?
Она молча смотрела на тени на полу.
– Мама, скажи! Помоги мне!
Она подняла взгляд – эта львица, что взрастила меня, научив носить свое имя как корону, – и тогда я увидел в ее глазах отчаяние матери, которая на все пойдет, лишь бы защитить детеныша. Но тогда у нее был только один выход.
– Я не могу, милый. Но, пожалуй, знаю того, кто сумеет.
Я понятия не имел, о чем еще просить. Не знал, какого искать ответа. Больше мама со мной не говорила, а Селин стала плакать. Я присматривал за сестренкой, как и прежде, но с той ночи все изменилось. Я пытался поговорить с папа – Боже милостивый! – и даже попросил прощения, но он в мою сторону и не взглянул. Я наблюдал за его работой: вот он стучит по наковальне, сжимая в кулаке молот. Его руки воплощали величие и ужас. Я вспоминал, как они, большие и теплые, сжимали мои маленькие ребяческие кулачки; как папа учил меня ставить силки и махать мечом; как он осыпал меня градом ударов. Мой папа умел создавать и ломать, и возможно, среди сломанных им вещей был и я.
Утешение я находил только в объятиях Ильзы и сбегал к ней, когда мог. Взбирался по дереву и стучался в окно, встречаясь с ней там, где слова не имели значения. Нас растили в Единой вере, и над нами витал призрак греха. Но когда парень и девушка желают друг друга, то и Господь не встанет между ними. Ни у какого писания, монарха или закона на этой земле нет силы их разлучить.
Как-то ночью мы подошли особенно близко к грани. Мы горели: Ильза отбросила сорочку, а я расшнуровал брюки; она целовала меня до боли в губах. Голова кружилась, когда наши нагие тела соприкасались, а желание взять ее росло во мне жаждой. Я изнывал, слыша запах ее вожделения. Мои пальцы запутались в ее длинных каштановых волосах, а она просунула свой юркий язычок мне в рот.
– Ты меня любишь? – прошептал я.
– Люблю, – ответила она.
– Хочешь меня?
– Хочу, – выдохнула она.
Мы упали на кровать. Ильза дышала часто-часто; ничего, кроме меня, больше не видела.
– Нельзя, Габриэль. Нам нельзя.
– Это не грех, – умолял я ее, целуя в шею. – Мое сердце принадлежит только тебе.
– А мое – тебе, – прошептала она. – Но у меня лунное кровотечение, Габриэль. Надо подождать.
В животе у меня затрепетало. Она еще что-то говорила, но слышал я только про кровь и тогда же все понял: дело в запахе, дело в желании – это оно сейчас кипело во мне.
Я бы не смог ничего объяснить, да и не думал о причинах. Мои губы скользили все ниже по гладким холмам и долинам ее тела, лаская изгибы; кончиками пальцев я ощущал, как колотится ее сердце. Она задрожала, стоило мне языком очертить ее пупок, и вяло зашептала возражения, а сама раздвинула ноги и запустила мне пальцы в волосы. Я же уткнулся лицом между ее бедер, ощутил ее трепет. В тот момент я был пятнадцатилетним юнцом, тревожным, как молодой барашек, желающим только служить и угождать. Но остальную, большую часть меня переполнял голод, темнее которого я еще не знал.
Ильза зажала себе рот ладонью, сомкнула бедра у меня на голове. А я, запустив язык внутрь нее, ощутил наконец ее вкус, и он – о Боже! – чуть не свел меня с ума. Соль и железо. Осень и ржа. Он омывал мой язык, давая ответы на все вопросы, которые я хотел бы задать. Ведь ответ был неизменен.
Он всегда был один.
Кровь.
Кровь.
Я и не знал, что можно ощущать себя настолько полным. Я познал покой, о котором не ведал. Я ощущал девушку, которая извивалась на простынях, шепча мое имя, и, хотя мгновение назад говорил, будто все мое сердце – ее, без остатка, сейчас она стала для меня лишь тем, что могла мне дать, сокровищем, запертым за дверьми этого нежного храма и взывающим ко мне без слов. У меня зачесались десны и, проведя по зубам языком, я заметил: они стали острыми, как ножи. Я слышал биение крови в бедрах Ильзы, крепко сжимающих мою голову. Повернулся, и она зашептала возражения. Тогда – Господи, спаси! – я впился в нее зубами. Она выгнула спину, напрягла все мышцы и, запрокинув голову и еще крепче вжимая меня в себя, пыталась не закричать.
Тогда же я познал цвет желания. Цвет был красный.
«Что я такое? Что я творю? Что, во имя Господа, со мной происходит?» Казалось, вот какие мысли должны были роиться у меня в мозгу. Их задал бы себе любой разумный человек, но для меня не осталось ничего. Ничего, кроме моих губ, прижатых к коже Ильзы, и истекающей мне в рот прокушенной вены. Я пил с жадностью путника в тысячелетних пустынных песках. Пил так, будто наступил конец света, и спасти мир, меня, всех нас от ожидающего во тьме грандиозного финала мог лишь очередной глоток. Я не мог остановиться. Да и не хотел.
– Стой…
Шепот Ильзы пробился через нескончаемый гимн у меня в голове, сквозь хор наших соединившихся сердец: ее уже почти не билось, теряя силы и слабея, а мое стучало как никогда горячо. Но все же часть меня, любившая эту девушку, сообразила, что творит другая. Я наконец отнял рот от вены и дрожащим от ужаса голосом вскрикнул:
– Боже!
Кровь. На простынях. На ее бедрах и у меня во рту. Чары моего поцелуя развеялись, охватившее Ильзу темное желание прошло, и она увидела, что я наделал. Ее животная часть взяла верх, и я лишь успел вскинуть руки, прося ее быть потише, но с посиневших губ уже сорвался визг. Это был визг девочки, которая поняла: под кроватью чудовища нет. Чудовище уже в кровати, с ней.
Раздались торопливые шаги, приглушенное проклятие. Ильза снова закричала, в ее глазах застыл чистый страх, который передался мне; внутри все похолодело. Это был ужас мальчика, причинившего вред любимой; мальчика в кровати девушки, отец которой уже мчится к ее спальне; мальчика, что проснулся от кошмара и понял: кошмар – это он сам.
Дверь распахнулась. На пороге стоял олдермен: в ночной рубашке, с кинжалом в руке. Глядя, как я, перемазанный кровью, вылезаю из кровати, он заорал: «Боже Всемогущий!» Ильза вопила, и олдермен с ревом взмахнул клинком. Лезвие прочертило огненную полосу у меня на спине, но ловить меня было поздно: охнув от боли, я с быстротой, от которой все кругом расплывалось, сиганул в окно, во тьму.
Босиком приземлился в грязь. Спотыкаясь, на ходу стал натягивать липкими от крови руками штаны. Деревня проснулась; крики Ильзы звонко разносились над грязной площадью, и во тьме полыхнула огненная цепочка – часовые бежали ко мне с факелами.
Я растерялся. Бежал Бог знает куда, и при этом, к собственному удивлению и ужасу, видел, как оживает, становясь ярче и прекраснее дня, ночь. Ноги у меня были будто стальные, сердце громыхало грозой, и я поистине ощущал себя львом. Во мне кипели жизнь и страх, но в голове уже прояснилось, и я подумал: что со мной творится? Что я сам натворил? Неужели мне как-то передалась доля проклятия Амели? Или же я – нечто совершенно иное?
Пошел снег, зазвенели церковные колокола, и я устремился к единственному прибежищу. Другого я просто не знал. К кому бежит детеныш, если его за пятки кусают волки? Кого зовет солдат, когда он истекает кровью в поле?
– Мать, – ответил Жан-Франсуа.
– Мать. – Габриэль кивнул.
В ту ночь, когда я оглушил папа, когда ко мне впервые воззвала кровь, мама пыталась что-то мне сказать. И вот я ворвался в нашу хижину, окликнул ее. Мама встала с постели, а сестренка в ужасе уставилась круглыми глазами на мои окровавленные руки и лицо. Папа зарычал: «О Боже, что ты натворил, сопляк?» Селин зашептала молитву, но мама обняла меня и сказала: «Не бойся, милый. Все будет хорошо».
В дверь заколотили тяжелые кулаки. Раздались гневные голоса. Мама и папа переглянулись, но папа не пошевелил и мускулом. Тогда моя львица, плотно сжав губы, накинула на плечи шаль и, взяв меня за руку, повела назад, на холод.
Нас встретило полдеревни. Пришли кто с фонарями, кто с факелом, а кто с иконой Спасителя. Среди селян был олдермен; отец Луи тоже пришел: в руках он, словно меч, сжимал Заветы. Вскинув священную книгу, он ткнул ею в мою сторону и хриплым от праведной ярости, с которой проклинал еще мою сестру, голосом выкрикнул:
– Мерзость!