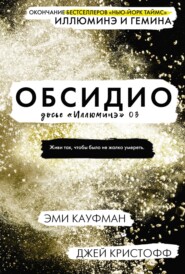По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Империя вампиров
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Убийца погладил татуировку на кисти руки, чернильные буквы под костяшками кулака.
– Терпение, – прошептал он.
– Можно войти?
Убийца сделал над собой усилие и не вздрогнул, не доставил удовольствия холоднокровке, он продолжил смотреть в окно – созерцая далекие неровные кулаки гор, покрытые пепельно-серым снегом. Взгляд чудовища скользнул по его шее. Убийца знал, чего оно хочет, зачем явилось сюда. Надеялся, может, все произойдет быстро, хотя в глубине души понимал: палачи захотят растянуть удовольствие, наслаждаясь его воплями.
Наконец он обернулся, чувствуя, как внутри него при виде твари разгорается пламя. Гнев давно стал ему другом, которому он неизменно радовался. С гневом он не чувствовал ноющих жил и старых костей, забывал о тянущей боли в рубцах. Глядя на вошедшее чудовище, убийца снова ощутил себя как в молодости, когда чистая и незамутненная ненависть окрыляла и несла вперед.
– Добрый вечер, шевалье, – произнес холоднокровка.
Вампир умер еще мальчишкой. Лет пятнадцати или шестнадцати, не возмужавшим и не утратившим чуть ли не девичьей стройности. Сколько ему лет на деле, знал один только Бог. Щеки вампира окрашивал легкий румянец, а лицо с большими карими глазами обрамляли густые золотистые локоны; на лоб падала искусно отделенная прядка. Губы на фоне идеально гладкой, гипсово-белой кожи казались неприлично красными. Тот же оттенок был и у белков глаз, а значит, кровосос недавно поел.
Не смысли убийца ничего в этих тварях, сказал бы, что эта похожа на живого.
На чудовище был черный бархатный кафтан, расшитый золотыми завитушками. Плечи покрывала мантия из вороньих перьев, стоячий воротник которой напоминал веер лоснящихся черных клинков. На груди был вышит клановый герб: два волка, щерясь, воют на две луны. Портрет дополняли темные бриджи, шейный платок, чулки из шелка да лакированные туфли. Чудовище в облике аристократа.
Оно стояло посреди камеры, хотя дверь по-прежнему оставалась запертой, словно тайна, на крепкий замок. В бледных, как кость, руках, оно сжимало толстую книгу.
– Я маркиз Жан-Франсуа крови Честейн, – сладкой колыбельной прозвучал голос вампира, – летописец ее милости Марго Честейн, первой и последней своего имени, бессмертной императрицы волков и людей.
Убийца молчал.
– Ты Габриэль де Леон, Последний Угодник-среброносец.
Убийца, названный Габриэлем, не произнес ни звука. В тишине глаза твари горели, словно свечи; воздух будто бы сгустился, как черная патока. На мгновение Габриэлю показалось, что он стоит у обрыва, и спасти может лишь прикосновение холодных рубиновых губ к его глотке. При одной мысли об этом кожу стало покалывать, а кровь непроизвольно забурлила. Так мотылек стремится к пламени, желая сгореть.
– Мне можно войти? – повторило чудовище.
– Ты и так вошел, холоднокровка, – ответил Габриэль.
Тварь взглянула ему под ремень брюк и понимающе улыбнулась.
– Спрашиваю из вежливости, шевалье.
Она щелкнула пальцами, и окованная железом дверь распахнулась. В камеру скользнула хорошенькая рабыня в длинном, сильно приталенном платье из бархатного дамаста с корсажем. Ее шею прикрывал черный кружевной воротник. На глаза падали похожие на цепочки из вороненой меди рыжие косички. Лет рабыне было за тридцать, как и самому Габриэлю; будь вампир обычным мальчишкой, а она – обычной женщиной, то сгодилась бы чудовищу в матери. Однако женщина с легкостью внесла и, не поднимая глаз, поставила рядом с холоднокровкой тяжелое, весившее как она сама, кожаное кресло.
Чудовище не сводило с Габриэля глаз. Как и он – с него.
Женщина внесла второе кресло и дубовый столик. Поставив кресло возле Габриэля, а столик между угодником и чудовищем, сцепила руки, словно настоятельница монастыря в молитве.
Вот теперь Габриэль разглядел шрамы у нее на горле: под кружевным воротничком скрывались легко узнаваемые следы укусов. От презрения по коже побежали мурашки. Тяжелое кресло рабыня внесла как пушинку, зато сейчас, в присутствии холоднокровки, стояла чуть дыша, а ее бледная грудь в разрезе платья вздымалась и опадала, как у девицы в первую брачную ночь.
– Merci [3 - Спасибо (фр.).], – сказал Жан-Франсуа из клана Честейн.
– К вашим услугам, – пробормотала женщина.
– Оставь нас, милая.
Рабыня встретилась с чудовищем взглядом. Ее рука метнулась вверх, к молочно-белому изгибу шеи и…
– Скоро, – пообещал холоднокровка.
Женщина приоткрыла рот. Габриэль заметил, как участился ее пульс.
– Как скажете, хозяин, – прошептала она.
Даже не взглянув на Габриэля, рабыня сделала книксен и выскользнула из комнаты, оставив убийцу наедине с чудовищем.
– Присядем? – предложило оно.
– Предпочитаю умереть стоя, – ответил Габриэль.
– Я не убивать тебя пришел, шевалье.
– Тогда чего тебе, холоднокровка?
Зашелестела тьма. Чудовище неуловимо переместилось в кресло. Сев, оно смахнуло с вышитого бархатного кафтана воображаемую пылинку и опустило книгу на колени. Простейшая демонстрация силы – показ мощи, призванный предостеречь убийцу от проявлений отчаянной дерзости. Однако Габриэль де Леон убивал этих тварей с шестнадцати лет и прекрасно видел, когда перевес сил был не в его пользу.
Он остался без оружия, не спал три ночи, умирал с голоду в окружении врагов и потел от ломки. В голове эхом звучал голос Серорука, звенели обитые серебром каблуки о булыжник двора в Сан-Мишоне.
Закон первый: если сам не жив, то и нежить не убьешь.
– Тебя, наверное, мучит жажда.
Из внутреннего кармана кафтана чудовище извлекло хрустальный флакон, на гранях которого заиграл бледный свет. Габриэль прищурился.
– Это просто вода, шевалье. Пей.
Знакомая игра. Щедрость – прелюдия к искушению.
Но язык во рту наждачкой скреб по нёбу, и, пускай эту жажду ничто унять не смогло бы, Габриэль выхватил флакон из призрачно-бледной руки и плеснул его содержимого себе на ладонь. Вода, кристально чистая, без следа крови.
Он устыдился облегчения, с которым выпил всю воду, до капли. Его человеческой половине она показалась слаще любого вина, любой женщины.
– Прошу. – Взгляд холоднокровки был острым, точно осколки стекла. – Присаживайся.
Габриэль не сдвинулся с места.
– Сядь, – приказала тварь.
Волей чудовища придавило, точно прессом, и вот уже Габриэль не видит ничего, кроме его темных глаз, как если бы они занимали всю комнату. И стало ему сладостно. Он чувствовал себя шмелем, которого манит аромат цветка, свежие, в каплях росы лепестки. Кровь снова устремилась в низ живота, но Габриэль, как и прежде, слышал в голове голос Серорука.
Закон второй: яд нежити со словами втечет тебе в уши.
Габриэль стоял. Твердо, на подламывающихся, как у жеребенка, ногах. Губ чудовища коснулась тень улыбки. Заостренные кончики пальцев убрали с кроваво-шоколадных глаз золотистую прядку и побарабанили по переплету книги.
– Впечатляет, – сказало оно.
– Терпение, – прошептал он.
– Можно войти?
Убийца сделал над собой усилие и не вздрогнул, не доставил удовольствия холоднокровке, он продолжил смотреть в окно – созерцая далекие неровные кулаки гор, покрытые пепельно-серым снегом. Взгляд чудовища скользнул по его шее. Убийца знал, чего оно хочет, зачем явилось сюда. Надеялся, может, все произойдет быстро, хотя в глубине души понимал: палачи захотят растянуть удовольствие, наслаждаясь его воплями.
Наконец он обернулся, чувствуя, как внутри него при виде твари разгорается пламя. Гнев давно стал ему другом, которому он неизменно радовался. С гневом он не чувствовал ноющих жил и старых костей, забывал о тянущей боли в рубцах. Глядя на вошедшее чудовище, убийца снова ощутил себя как в молодости, когда чистая и незамутненная ненависть окрыляла и несла вперед.
– Добрый вечер, шевалье, – произнес холоднокровка.
Вампир умер еще мальчишкой. Лет пятнадцати или шестнадцати, не возмужавшим и не утратившим чуть ли не девичьей стройности. Сколько ему лет на деле, знал один только Бог. Щеки вампира окрашивал легкий румянец, а лицо с большими карими глазами обрамляли густые золотистые локоны; на лоб падала искусно отделенная прядка. Губы на фоне идеально гладкой, гипсово-белой кожи казались неприлично красными. Тот же оттенок был и у белков глаз, а значит, кровосос недавно поел.
Не смысли убийца ничего в этих тварях, сказал бы, что эта похожа на живого.
На чудовище был черный бархатный кафтан, расшитый золотыми завитушками. Плечи покрывала мантия из вороньих перьев, стоячий воротник которой напоминал веер лоснящихся черных клинков. На груди был вышит клановый герб: два волка, щерясь, воют на две луны. Портрет дополняли темные бриджи, шейный платок, чулки из шелка да лакированные туфли. Чудовище в облике аристократа.
Оно стояло посреди камеры, хотя дверь по-прежнему оставалась запертой, словно тайна, на крепкий замок. В бледных, как кость, руках, оно сжимало толстую книгу.
– Я маркиз Жан-Франсуа крови Честейн, – сладкой колыбельной прозвучал голос вампира, – летописец ее милости Марго Честейн, первой и последней своего имени, бессмертной императрицы волков и людей.
Убийца молчал.
– Ты Габриэль де Леон, Последний Угодник-среброносец.
Убийца, названный Габриэлем, не произнес ни звука. В тишине глаза твари горели, словно свечи; воздух будто бы сгустился, как черная патока. На мгновение Габриэлю показалось, что он стоит у обрыва, и спасти может лишь прикосновение холодных рубиновых губ к его глотке. При одной мысли об этом кожу стало покалывать, а кровь непроизвольно забурлила. Так мотылек стремится к пламени, желая сгореть.
– Мне можно войти? – повторило чудовище.
– Ты и так вошел, холоднокровка, – ответил Габриэль.
Тварь взглянула ему под ремень брюк и понимающе улыбнулась.
– Спрашиваю из вежливости, шевалье.
Она щелкнула пальцами, и окованная железом дверь распахнулась. В камеру скользнула хорошенькая рабыня в длинном, сильно приталенном платье из бархатного дамаста с корсажем. Ее шею прикрывал черный кружевной воротник. На глаза падали похожие на цепочки из вороненой меди рыжие косички. Лет рабыне было за тридцать, как и самому Габриэлю; будь вампир обычным мальчишкой, а она – обычной женщиной, то сгодилась бы чудовищу в матери. Однако женщина с легкостью внесла и, не поднимая глаз, поставила рядом с холоднокровкой тяжелое, весившее как она сама, кожаное кресло.
Чудовище не сводило с Габриэля глаз. Как и он – с него.
Женщина внесла второе кресло и дубовый столик. Поставив кресло возле Габриэля, а столик между угодником и чудовищем, сцепила руки, словно настоятельница монастыря в молитве.
Вот теперь Габриэль разглядел шрамы у нее на горле: под кружевным воротничком скрывались легко узнаваемые следы укусов. От презрения по коже побежали мурашки. Тяжелое кресло рабыня внесла как пушинку, зато сейчас, в присутствии холоднокровки, стояла чуть дыша, а ее бледная грудь в разрезе платья вздымалась и опадала, как у девицы в первую брачную ночь.
– Merci [3 - Спасибо (фр.).], – сказал Жан-Франсуа из клана Честейн.
– К вашим услугам, – пробормотала женщина.
– Оставь нас, милая.
Рабыня встретилась с чудовищем взглядом. Ее рука метнулась вверх, к молочно-белому изгибу шеи и…
– Скоро, – пообещал холоднокровка.
Женщина приоткрыла рот. Габриэль заметил, как участился ее пульс.
– Как скажете, хозяин, – прошептала она.
Даже не взглянув на Габриэля, рабыня сделала книксен и выскользнула из комнаты, оставив убийцу наедине с чудовищем.
– Присядем? – предложило оно.
– Предпочитаю умереть стоя, – ответил Габриэль.
– Я не убивать тебя пришел, шевалье.
– Тогда чего тебе, холоднокровка?
Зашелестела тьма. Чудовище неуловимо переместилось в кресло. Сев, оно смахнуло с вышитого бархатного кафтана воображаемую пылинку и опустило книгу на колени. Простейшая демонстрация силы – показ мощи, призванный предостеречь убийцу от проявлений отчаянной дерзости. Однако Габриэль де Леон убивал этих тварей с шестнадцати лет и прекрасно видел, когда перевес сил был не в его пользу.
Он остался без оружия, не спал три ночи, умирал с голоду в окружении врагов и потел от ломки. В голове эхом звучал голос Серорука, звенели обитые серебром каблуки о булыжник двора в Сан-Мишоне.
Закон первый: если сам не жив, то и нежить не убьешь.
– Тебя, наверное, мучит жажда.
Из внутреннего кармана кафтана чудовище извлекло хрустальный флакон, на гранях которого заиграл бледный свет. Габриэль прищурился.
– Это просто вода, шевалье. Пей.
Знакомая игра. Щедрость – прелюдия к искушению.
Но язык во рту наждачкой скреб по нёбу, и, пускай эту жажду ничто унять не смогло бы, Габриэль выхватил флакон из призрачно-бледной руки и плеснул его содержимого себе на ладонь. Вода, кристально чистая, без следа крови.
Он устыдился облегчения, с которым выпил всю воду, до капли. Его человеческой половине она показалась слаще любого вина, любой женщины.
– Прошу. – Взгляд холоднокровки был острым, точно осколки стекла. – Присаживайся.
Габриэль не сдвинулся с места.
– Сядь, – приказала тварь.
Волей чудовища придавило, точно прессом, и вот уже Габриэль не видит ничего, кроме его темных глаз, как если бы они занимали всю комнату. И стало ему сладостно. Он чувствовал себя шмелем, которого манит аромат цветка, свежие, в каплях росы лепестки. Кровь снова устремилась в низ живота, но Габриэль, как и прежде, слышал в голове голос Серорука.
Закон второй: яд нежити со словами втечет тебе в уши.
Габриэль стоял. Твердо, на подламывающихся, как у жеребенка, ногах. Губ чудовища коснулась тень улыбки. Заостренные кончики пальцев убрали с кроваво-шоколадных глаз золотистую прядку и побарабанили по переплету книги.
– Впечатляет, – сказало оно.