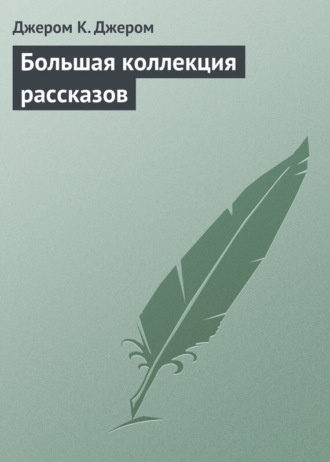
Большая коллекция рассказов
И я не вижу перед собою никакого просвета. Год от году читающая публика все дальше и дальше отходит от литературы, описывающей средние классы. Что же мне остается делать, если я только эти классы и умею описывать?
– Да пишите об аристократах все, что вам придет в голову, – сказал мне однажды один из моих знакомых, которому я поверил свои опасения. – Не беда, если вы их не знаете: читатели все равно всему поверят, лишь бы похлеще было написано.
Я возразил, что у уважающих себя литераторов существует твердое правило никогда не писать о том, что им плохо знакомо, поэтому я не могу воспользоваться таким советом. Чтобы изучить и понять аристократов, мне необходимо проникнуть в их среду. А как сделать это?
И у меня возникла мысль: не могу ли я сделаться, хотя на время, лакеем и в качестве такового проникнуть в замкнутый для меня круг?
Ухватив за хвост эту мысль, я принялся всесторонне разрабатывать ее. Но пока она разработается, займемся другими темами.
Одно англосаксы делают лучше французов, турок, русских, даже лучше немцев и бельгийцев, когда они назначают кого-нибудь на общественную или государственную должность, потому что в лице назначаемого подразумевают общественного или государственного слугу; когда же облекают кого-нибудь в мундир французы и многие другие народы, то они этим лишь удлиняют и без того длинные списки чиновников.
Если вы среди своих знакомых англичан или американцев знаете человека, не имеющего еще понятия о манерах континентальных должностных лиц, то советую вам пойти вместе с ним… ну, на почту, когда он отправится туда в первый раз, чтобы лично сдать заказное письмо. Вы увидите, с какою твердою самоуверенностью человека, гордого собою и своей расой, он подходит к почтовому учреждению. Подымаясь по лестнице, он спокойно толкует с вами о том, что он намерен делать, когда сдаст письмо. Говорит он таким уверенным тоном, точно вполне убежден, что его здесь надолго не задержат. Но вы уже хорошо знаете порядки в подобных континентальных учреждениях и про себя посмеиваетесь над наивностью своего знакомого.
Очутившись у двери, он пытается отворить ее легким толчком, но дверь не поддается. Он всматривается в надпись на двери и убеждается, что эта дверь назначена не для входа, а для выхода, и отворяется наружу от толчка изнутри. Ваш знакомый ничего не имеет против того, чтобы потянуть дверь к себе, вместо того чтобы толкать ее внутрь. Дверь отворяется, но тут же в ее раме появляется свирепейшего вида швейцар, который сурово указывает простертою дланью на настоящий вход для прибывающих.
– Ах, чтоб вас! – пока еще беззлобно бормочет ваш спутник и спускается с двадцати ступеней вниз, чтобы потом взобраться по такому же количеству ступеней вверх к другой двери. – Я сию минуту, – говорит он вам, входя в эту дверь. – Если хотите, обождите меня здесь.
Но вы, ради интереса, следуете за ним. Внутри есть места для сиденья, а у вас имеется в кармане газета.
Дело происходит, скажем, в Германии, где почтамты равняются английскому банку по своей обширности. Ваш спутник растерянно оглядывается. Перед ним тянется длинный ряд окошек, каждое с особой надписью. Плохо знакомый с немецким языком, он принимается разбирать эти надписи по складам, начиная с номера первого, и только тут ему приходит в голову, что сдача письма не такое дело, которое находили бы нужным поощрять германские почтовые чиновники. Из одного окошечка выглядывает лицо, на котором так и написано: «И охота это вам приходить сюда и надоедать нам такими глупостями, как письма! Давайте потолкуем лучше о чем-нибудь более интересном». А на смотрящем из второго окошечка выражается: «Эх, хорошо бы нам теперь выпить и закусить!»
Наконец вашему спутнику кажется, что он напал на то, что ему нужно, потому что на одной из надписей он увидел слово «Регистрация». Он смело подходит к этому окну и стучит в него, но никто не обращает на него внимания. Континентальный чиновник – это человек, жизнь которого омрачается тем, что от него вечно кто-нибудь чего-нибудь требует. Это – самое несчастное существо в мире.
Возьмите кассира в театре. Он только что уселся пить чай или кофе, когда вы постучались к нему в окно. Он обращается к своему товарищу и восклицает:
– Ну, вот еще один! Точно взбесились: всем понадобились билеты на сегодняшнее представление, и именно в эту минуту! Прямо с ума можно сойти с этой надоедливой публикой!
На вокзалах железных дорог та же история.
«Еще одному болвану вздумалось отправляться в Антверпен! – ворчит себе под нос кассир, выслушав ваше требование. – И что им не сидится на месте? Носит их взад и вперед, как угорелых кошек!»
Континентальному почтовому чиновнику в особенности портит печень и жизнь та часть публики, которая одержима страстью к писанию и отправке писем. Он делает все, что может, чтобы отучить от этого публику.
– Не угодно ли? – говорит он своему товарищу (заботливое германское правительство всегда сажает к одному чиновнику другого для компании, чтобы тот не обалдел от скуки и под давлением этой скуки не вздумал заинтересоваться своим делом). – Целых двадцать человек сразу столпилось! Некоторые из них уже давно торчат здесь…
– Так что ж, пусть подождут еще: авось, им надоест, и они уйдут, – замечает товарищ. – Попробуйте не обращать на них никакого внимания.
– А вы думаете, я этого не пробовал? – продолжает первый. – От них никакими средствами не отделаешься. Они только одно и твердят: «Марок! марок! марок!» Мне кажется, они только и умеют…
– А знаете что? – с внезапным вдохновением перебивает младший чиновник. – Попробуйте сразу, не заставляя их ждать, выдать им марки. Может быть, это удовлетворит их, и они отстанут…
– И в этом немного толку, – грустно возражает старший чиновник. – Одна толпа уйдет, явится другая. Только и всего.
– Ну, все-таки будет хоть перемена лиц, – говорит младший. – Мне страсть как надоели одни и те же рожи.
Разговорившись однажды с одним германским почтовым чиновником, которому и мне часто приходилось надоедать, я сказал ему:
– Вы думаете, я пишу свои вещицы и отправляю их по почте с исключительной целью мучить вас? Позвольте мне выбить эту мысль из вашей головы. Говоря откровенно, я ненавижу всякий труд так же, как и вы. Ваш городок мне очень нравится. Будь у меня малейшая возможность, я бы по целым дням только и делал, что болтался по вашим чистеньким улицам, и никогда бы не подумал садиться за стол, брать в руки перо и водить им по бумаге. Но как же мне быть? У меня жена и дети. Вы, наверное, сами знаете, что это значит, когда у вас требуют то на обед, то на обувь, то на шляпки и тряпки и черт знает на что. Вот мне и приходится писать эти вещицы и приносить их в виде пакетов к вам для отправки тому, кто мне дает за них деньги. Вы посажены здесь для того, чтобы принимать у меня эти пакеты. Не будь вас, то есть не будь в этом городе почтового учреждения, были бы другие способы переправки корреспонденции. Но раз здесь есть почтовое учреждение и вы состоите в нем чиновником, то я поневоле и обращаюсь к вам.
Мне кажется, это проняло его. По крайней мере, с тех пор он перестал глядеть на меня травленым волком; напротив, каждый раз, когда я приходил с новой партией, он приветливо улыбался мне и даже говорил что-нибудь, сочувствующее моему труду.
Вернемся, однако, к вашему еще неопытному знакомому. Окошечко вдруг раскрывается. Раздается сухой, отрывистый, сверхофициальный возглас: «Имя и адрес!» Не приготовленный к такому странному вопросу, новичок раза два сбивается в своих показаниях относительно адреса. Чиновник пронизывает его пытливым оком и продолжает еще более сухо:
– Имя матери?
– Чье имя? – недоумевает ваш спутник, думая, что ослышался.
– Матери! – повышенным тоном повторяет чиновник и добавляет: – Должна же быть мать.
Ваш спутник имел когда-то мать и нежно любил ее, но она уже лет двадцать как умерла, и он теперь никак не может вспомнить ее имени. Разве дети называют своих матерей по именам? Он говорит, что, кажется, его мать звали Маргаритой Генриеттой, но он не совсем в этом уверен. Притом, какое же может быть дело его покойной матери до заказного письма, которое ему нужно отправить к своему компаньону в Нью-Йорк?
– Когда он умер? – продолжает свой допрос чиновник.
– Он?.. Да кто же это «он»? – еще более недоумевает ваш знакомый. – Ведь вы спрашиваете про мою мать…
– Нет, – обрезает чиновник, – я вас спрашиваю не про мать, а про ребенка.
Недоумение вашего знакомого переходит в раздражение.
– Про какого ребенка?! Что за странные вопросы вы задаете мне? – гневно восклицает он. – Мне нужно только сдать заказное письмо, а вы…
– Что-о-о? Письмо? Это не здесь!
И окошечко с треском захлопывается. Когда злополучный податель минут десять спустя добирается наконец до надлежащего окошка, где идет регистрация заказной корреспонденции, а не умерших детей, как в первом, то ему со строгостью ставится в упрек то, что письмо запечатано или не запечатано, смотря по обстоятельствам, или, вернее, по капризу чиновника.
Я до сих пор так и не мог понять этой странности. Подаете письмо незапечатанным – на вас набрасываются за это; подаете запечатанным – опять беда: вас обвиняют чуть не в государственном преступлении. Во всяком случае, ваше письмо не примут в том виде, в каком вы желали бы послать его.
Очевидно, германское чиновничество, при обращении с публикой, придерживается правил той няньки, которая посылала свою старшую питомицу пойти посмотреть, что делает ее маленький братишка, и внушить ему, чтобы он не смел делать этого.
Потратив совершенно напрасно чуть не целый час и испортив себе на весь остальной день настроение, ваш знакомый, в сильном возбуждении, возвращается в свою гостиницу и посылает оттуда свое письмо с тамошним швейцаром, который лучше знает, как угодить почтовым чиновникам.
Это германские порядки. Посмотрим теперь швейцарские. Как-то раз я с двумя товарищами собрался побродить пешком по Тиролю. Ввиду этого мы отправились налегке, а весь свой багаж послали из Констанца в Инсбрук почтой. Мы рассчитывали попасть в Инсбрук недели через две, и нам, разумеется, было приятно сознавать, что у нас там будет во что переодеться; с собою же мы взяли только по две смены белья.
Чемоданы наши действительно оказались на месте, и мы могли любоваться на них сквозь решетку в почтамте, но получить их не могли, по случаю несоблюдения какой-то формальности в Констанце. Этим упущением было возбуждено внимание швейцарских властей, и те послали инсбрукскому почтамту специальное предписание выдать данный багаж с особой осмотрительностью, так как возникло опасение, что он может попасть в руки ненастоящих собственников.
Забота об интересах путешественников, разумеется, очень трогательна. Но, к несчастью, констанцские власти не научили инсбрукский почтамт, как распознать истинного собственника от самозваного. И вот получилась такая картина.
Трое загорелых, обветренных, покрытых потом и пылью людей, с сумками на плечах и толстыми палками в руках, ввалились в почтамт и заявили, что желают получить свой багаж: «Вот те три чемодана в углу». Эти чемоданы были новенькие, чистенькие и, видимо, дорогие, а потому резко дисгармонировали с наружным видом лиц, претендовавших на них. Эти претенденты предъявили какие-то сильно помятые бумажные клочки, будто бы выданные им в констанцском почтамте в виде квитанций в приеме посылок. Но в глухих тирольских ущельях одинокий путник легко может быть ограбленным троими предприимчивыми молодцами и сброшенным в пропасть. Принимая во внимание эту возможность, почтовый чиновник качает головой и говорит, что желал бы видеть нас в сопровождении такого лица, которое могло бы засвидетельствовать наши личности. Посоветовавшись между собою, мы пришли к заключению, что сделать это в состоянии только швейцар той гостиницы, где мы остановились, и мы бегом отправились назад в гостиницу, обступили швейцара и представились ему:
– Вот, господин швейцар, моя фамилия такая-то, а фамилии моих спутников – такие-то.
– Очень рад познакомиться с вами, господа, – с любезной улыбкой и ловким поклоном заявляет швейцар. – Чем могу служить?
– Не можете ли вы дойти с нами до почты и удостоверить там наши личности? – продолжаю я, ободренный такою любезностью.
Швейцары при гостиницах всегда люди очень любезные и готовые отнестись с полным сочувствием к путешественникам, страдающим от излишних формальностей властей. Поэтому и тот швейцар, о котором я повествую, без всяких возражений отправился с нами на почту. Он делал там все, что только было в его силах, но и этого оказалось мало.
Он подробно разъяснил почтовому чиновнику, кто мы такие, и когда тот спросил, откуда он это знает, швейцар ответил, что находит такой вопрос очень странным, и намекнул, что так как он человек занятой и ему некогда долго болтать, то лучше бы нам скорее выдали наши чемоданы и отпустили бы всех нас с миром.
Тогда чиновник спросил, давно ли он нас знает. Швейцар с красноречивым жестом поднял к потолку обе руки и заявил, что память его положительно отказывается идти так далеко назад, но что он знает нас с самого детства, когда мы вместе с ним еще играли в лошадки.
На новый вопрос со стороны исполнительного чиновника, знает ли он кого-нибудь, кто также знал бы нас, швейцар поспешил ответить, что все обитатели Инсбрука хорошо знают и уважают нас, – все, решительно все, за исключением, очевидно, одних почтовых чиновников.
Вследствие этого чиновник осведомился, не будет ли господин швейцар настолько любезен и не приведет ли хоть одного вполне благонадежного гражданина, который мог бы поручиться за нас. Этот вопрос заставил нашего почтенного ходатая забыть нас и наши тревоги; дело перешло уже на личную почву между швейцаром и почтовым чиновником. Если уж он, швейцар такой-то гостиницы, не вполне надежный гражданин Инсбрука, то кого же еще можно считать таковым?
Оба джентльмена пришли в сильное возбуждение, и их беседа приняла совершенно непонятный для меня характер, так как я не мог разобрать, что они кричали друг другу. Понял я только, что чиновник припомнил, будто некоторые намеки на деда швейцара относительно пропажи у кого-то коровы до сих пор еще не получили достаточного освещения. Кажется, если я не ошибаюсь, швейцар возражал на эти инсинуации в том духе, что почтовые чиновники, тетки которых подозревались в нежных чувствах к артиллерийским офицерам, должны бы быть поосторожнее в своих намеках на его деда.
Наши симпатии были, разумеется, на стороне швейцара. Ведь он заступался за наши интересы, хотя до сих пор и безуспешно. Но так как разгоревшийся спор грозил затянуться, то мы кое-как убедили нашего заступника не волноваться больше из-за нас и вернуться с нами в гостиницу. Мы страшно проголодались, а ему пора было быть на своем посту. Дело же о чемоданах мы решили повернуть иначе.
На следующее утро мы снова, но уже одни, отправились на почту и жалобными словами довели чиновника чуть не до слез. Он размяк и был готов признать нас за действительных владельцев чемоданов, но ему не приказано было выдавать. Ввиду этого он, сжалившись над нашим положением, предлагает нам приходить в установленные часы на почту и переодеваться там, за большим шкафом, в наши вещи, находившиеся в чемоданах. Хотя такое предложение и было не совсем удобно для нас, но за неимением другого выхода мы согласились на него, тем более что чиновник в своем человеколюбии дошел до того, что разрешил нам входить с заднего крыльца.
Таким образом, в течение нескольких дней, до возвращения в Инсбрук отсутствовавшего великобританского консула, местное почтовое учреждение служило нам туалетной комнатой.
И все это благодаря тому, что швейцарские почтовые чиновники страдают излишней осторожностью.
IV. УДОБСТВО ИМЕТЬ ХВОСТ
Один из моих приятелей часто горюет по поводу того, что мы лишились наших хвостов. И я нахожу, что он прав. Было так полезно иметь хвост, который весело болтался бы из стороны в сторону, когда мы в духе, и неподвижно висел бы вниз, когда мы огорчены; а когда на нас нападала бы сумасбродная отвага, то закручивался бы кверху винтом.
– Навещайте нас почаще, – говорит нам при прощанье наша любезная хозяйка. – Не заставляйте себя просить. Приходите как только вам вздумается. Мы вам всегда так рады.
Мы верим ей на слово и приходим дня через три. Отворяющая нам служанка на наш вопрос: «Дома ли хозяйка?» – отвечает, что «посмотрит». Слышно торопливое шмыганье ног, смешанный говор встревоженных голосов, хлопанье дверями. Служанка, вся красная и запыхавшаяся – должно быть, от долгого и усердного искания хозяйки, на счастье оказавшейся дома, – приглашает нас в гостиную. Мы становимся на каминный коврик, крепко прижимая к груди шляпу, как единственный близкий нам предмет; нам кажется, что мы попали в гостиную хирурга и должны подвергнуться болезненной операции.
Ожидаем мы довольно долго. Наконец появляется хозяйка.
Напудренное лицо ее с подведенными бровями сияет приветливостью, подкрашенные губы улыбаются. Неужели она в самом деле рада нам, или только притворяется обрадованной, а в глубине души проклинает нас за то, что мы помешали ей сделать что-нибудь нужное по хозяйству?
Как бы там ни было, но она делает вид, что очень обрадована нашим посещением, и упрашивает нас разделить с ней полдник. И она и мы были бы спасены от лицемерия, если бы у нее был хвост: высунувшись где-нибудь из-под юбки, он показал бы нам истинное настроение его обладательницы.
Впрочем, если бы у нас и остались хвосты, то мы, по всей вероятности, научились бы управлять и ими так же искусно, как лицами, взглядами и улыбками, чтобы скрыть свои истинные чувства; научились бы размахивать хвостами точно в полном восторге, хотя на самом деле готовы были бы лопнуть от досады. Прикрывая свою телесную наготу фиговыми листочками, мы стараемся этим прикрыть свои мысли.
Но, спрашивается, много ли выиграл человек такою маскировкой? Не лучше ли быть правдивым? Один из моих маленьких друзей, десятилетний мальчик, воспитан так, что привык всегда говорить только правду или, по крайней мере, то, что он считает правдой. Я с большим интересом наблюдаю результаты такого правдолюбия. Когда вы спросите мальчика, какого он о вас мнения, он тотчас же откровенно выскажет его. Многим это не нравится, и они в негодовании восклицают:
– Какой, однако, ты грубый, мой милый!
Но мальчик резонно возражает:
– Я же просил вас лучше не спрашивать меня, какого я о вас мнения, а вы спросили. Ну вот я и сказал.
Таким образом мальчик сделался авторитетом. Те, которые получили от него удовлетворительные ответы, ходят довольные и надутые гордостью, как индийские петухи, а получившие ответы неудовлетворительные имеют вид мокрых куриц и уверяют, что мальчик крайне невежлив.
Кстати о вежливости. Она, вероятно, изобретена только для лжи. Мы освещаем и греем солнцем нашей вежливости одинаково праведных и неправедных, без разбора. Мы уверяем каждую хозяйку дома, что проводим у нее самые счастливые часы нашей жизни. В том же самом уверяют нас и наши гости, и мы стараемся верить друг другу.
Помню, как однажды зимою знакомая мне приличная пожилая дама устроила из одного южногерманского городка санную прогулку в лес. Такая прогулка совсем не то, что пикник. Люди, желающие быть вместе, во время таких прогулок не могут уединиться от остальной, лишней для них компании, как это делается на пикниках, а должны все время оставаться на глазах у других.
Нам предстояло проехать шестерым в одних санях миль двадцать за город, пообедать в уединенной «Лесной вилле», потом позабавиться пением и танцами, а затем возвращаться домой при свете луны. Успех таких увеселительных поездок зависит от желания и способностей каждого участвующего вносить свою долю оживления в компанию. Инициаторша нашей поездки решила программу предстоящего увеселения накануне вечером, в гостиной нашего «пансиона». Оставалось одно свободное место в санях. Стали придумывать, кем бы пополнить его.
– Томпкинсом, – предложил кто-то из участников поездки. Все дружно подхватили это имя.
Томпкинс был именно тот, кого было нужно, чтобы не только пополнить, но и внести жизнь и веселье в нашу поездку. Трудно было подыскать более подвижного и остроумного человека.
Он сидел на другом конце нашего длинного стола, но его заразительный смех разносился по всей зале. Устроительница поездки не знала его в лицо и, когда ей указали его, она направилась к нему. К несчастью, она была близорука, поэтому ошиблась и обратилась к человеку самого зловещего вида. Этого несносного человека год тому назад я встретил в Шварцвальде и надеялся никогда больше не встречать на своем жизненном пути. Я отвел ее в сторону и шепнул ей на ухо:
– Что вы делаете? Зачем вы пригласили его? Ведь мы не успеем проехать и полдороги, как он наведет на всех нас смертельное уныние.
– О ком вы говорите? – недоумевала дама.
– Конечно, о Джонсоне.
– О каком Джонсоне? Я его совсем не знаю.
– Да это и есть та прелесть, которую вы привели с того конца сюда, – пояснял я.
– Ах, боже мой! – с отчаянием прошептала она. – А ведь я думала, что это Томпкинс. Но я уже успела пригласить его, и он согласился…
Она была помешана на деликатностях, поэтому и слышать не хотела о том, чтобы напрямик показать Джонсону, что он был приглашен ею по ошибке.
Разумеется, как я и предвидел, все наше удовольствие было отравлено этим несноснейшим субъектом. Начал он с того, что поссорился с нашим возницей, которого нам потом соединенными усилиями едва удалось успокоить; потом всю дорогу мучил нас скучнейшими рассуждениями на тему о государственных доходах и обложениях; хозяину «Лесной виллы» высказал крайне нелестное и, кстати сказать, очень несправедливое мнение об его кухне, и настаивал, чтобы все окна были отворены. Это зимою-то при порядочном холоде с ветром!
Один из участвовавших, немецкий студент, запел было какую-то патриотическую песенку. Это повело к горячему диспуту между студентом и Джонсоном, который грубо и злобно прошелся насчет неуместности патриотических чувств в наше время, и по пути дал такую характеристику тевтонского национализма, что было прямо удивительно, как это только сошло ему с рук. Мы не танцевали, потому что Джонсон объявил, что не может представить себе более дурацкого зрелища, чем вид прыгающих, подобно дикарям, приличных людей. Обратный путь он уснащал анализом увеселения, так что мы едва могли дождаться, когда отделаемся от этого сокровища. Тем не менее наша председательница нашла нужным поблагодарить его за «удовольствие», которое он доставил нам своей компанией.
Мы дорого платим за свою потребность в искренности. От платы за похвалы мы освобождены, потому что похвала в настоящее время ровно ничего не стоит. Люди горячо жмут мне руку и уверяют меня, что им нравятся мои сочинения. Но это только раздражает меня, не потому, чтобы я стоял выше желания похвал, а просто потому, что я уже не верю в них. Я знаю, что люди будут напевать мне похвалу даже и в том случае, когда не прочли ни одной моей строчки. Когда я при посещении какого-нибудь дома вижу открытой на столе одну из моих книг, мой подозрительный ум не преисполняется горделивой радостью. Мне представляется, что накануне происходила между хозяевами этого дома такого рода беседа:
– Не забудь, дорогая, что завтра к нам придет Джером…
– Завтра?! Что же ты мне ничего не сказал об этом раньше?
– Я говорил тебе на той еще неделе. Но, видно, ты забыла… Какая плохая стала у тебя память.
– Напротив, это у тебя, дорогой, память никуда не годится. Уверяю тебя, ты и не думал мне говорить об этом… Как его?.. Ах да! – о Джероме. Иначе я обязательно запомнила бы… Кстати: что, собственно, представляет собою этот Джером? Я слышала, о нем много говорят, но не обращала внимания. Какая-нибудь знаменитость?
– О нет! Просто писатель… книги пишет.
– Книги?.. А приличный ли он вообще человек?
– Вполне приличный. Разве я стану приглашать неприличных людей? Эти писатели нынче везде приняты… Кстати, есть у нас хоть одна из его книг? Читали мы его?
– Кажется, нет. Впрочем, посмотрю… Вот если бы ты сказал мне вовремя, что ждешь его, я бы послала в книжный магазин.
– Я сам достану. Все равно мне нужно в город…
– Жаль тратить зря деньги. Не будешь ли ты около брата. Он всегда покупает новые книги. Может быть, у него найдется и этот… как его?..
– Нет, лучше уж я возьму прямо из магазина. Это будет гораздо приличнее, в особенности, если в хорошем переплете. Сразу будет видно, что мы – люди, интересующиеся последним словом литературы, и не скаредничаем на приобретение новых книг. В таких случаях жалеть денег не надо…
Но, может статься, что происходил разговор и в другом духе. Например:
– Ах, как я рада, что он будет! Я уж давно жажду встретиться с ним.








