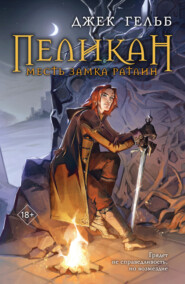По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сброд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
То ли гулкое эхо, то ли воротившаяся, как назло, слабость и муть в рассудке – что-то извратило голос царский, и звучал он едва ли по-человечески. Если бы истукан, высеченный из камня, молвил слово, было бы больше в нем крови и жизни, нежели в царе всея Руси.
– Заходит князь Черных, щурится с мороза, рука об руку. Шубу отряхнул – слева, справа дважды. Трясет и трясет, а снег не тает… и шныряют москолуды, трескочут, грохочут, ржут, а воздух до того душный, до того жадный, что пожрал все, до последнего писка. И стряхивает снег неталый, стряхивает, а из-под длани выплывает морда, а затем и сам черт. И прирос к Черных, горб уродский, и пьет кровь евонную, и ест все, чем князь себя потчует…
Царь Иоанн прервал бормотание так же резко, как и начал. Басманов застыл, боялся шевельнуться. Глаза невольно косились на порог. Будто бы и впрямь лежит неталый снег.
– Неча бисер метать, – хрипло усмехнулся Иоанн.
Дыхание не успело вновь сделаться ладным. Федор осенил себя крестным знамением.
– Я верю, владыка, – прошептал Басманов тихо, но пламенно, как на исповеди.
– Ежели так, не смей просить за сына еретика, – пресек государь, возвращаясь на трон.
– Сын несет бремя отца? – вопрошал Федор.
– Ты несешь бремя своего отца, Басманов? Я ли не несу бремени отцов своих? Пущай же Игорь Черных и юн, но всяко отец его на плече черта выхаживал. Нету мне никакой отрады ни в гибели князя, ни в изгнании сына евонного. Справедливость принадлежит тем, кто вершит ее.
– А милость – тем, кто явит ее ближнему. – Федор вцепился в парчу золотую и тут же руку отдернул.
Злато ли пламенем горело али заря лучезарная, да длань ошпарило. Стиснул кулак Басманов да прошипел сквозь боль:
– С бременем судить неправедных, великий владыка, на твоих плечах и власть, и сила, и свобода миловать, светлый владыка!
– Прочь, Басманов, – сквозь злость и горечь велел государь.
Федор вновь вцепился в одеяние царское. Жжение вновь пронзило длань. Басманов припал губами к золотой парче, упал в земном поклоне. Вся боль, поднявшаяся в сердце, пламенно взывала, как взывают припадая к мощам чудотворца. Последний раз Федор вознес молитву в душе своей, не смея вымолвить вслух. Как можно бросать слова священной молитвы в тот же воздух, которым дышит черт? В тот же воздух, в котором не тает снег?
Вознеся последний раз молитву за ближнего, Федор вышел вон, уповая на чудо. Голова раскалывалась.
* * *
Сон неохотно подступал, да, как назло, под дверью занялась возня, а затем и брань, кому-то смачно дали по лбу. Федор приподнялся, а голова будто на подушке и осталась али куда дальше закатилась – иначе отчего все потемнело? Как прояснилось, на пороге отец стоял. Из-за свирепого воеводы выглядывал холоп, рожу потирая от оплеухи.
«Не к добру…»
– Ты просил за Черных?! – Басман-отец захлопнул дверь.
Грохот стряхнул сон, который и так не шел, так что даже не жалко.
– Владыка сам молвил, чтобы я просил… – не успел договорить Федор, как отец выругался.
Пот холодный выступил, а голову разбитую, напротив, в жар бросило.
– Коли государь велит: «Проси!» – так лоб расшибай в земном поклоне, – поучал Басман-отец, – да клянись, остолоп несчастный, что ничего тебе не надобно! «Твоею добротою, светлый владыка!» И в пол!
Вскинул Алексей руки к небу, а на землю вновь сплюнул ругань, брань, да такую едкую, что будь подле молоко – скисло, пасись скотина – подохла.
– Рассудил царь: виновны, стало быть, так и есть! И неча гадать, в чем грех да вина. Не твоего ума, и Бога благодари в утренней и вечерней молитве, что не тебе судить! Приговор царский… эдак тебя кобыла-то лихо! Совсем башка твоя бестолковая надоела, вот и ищешь, как расправиться с нею, чтобы на плечи не давила?
Голос ослаб, дрогнул. Федор все слышал, и даже боле. Выдал себя Басман-отец и страх свой выдал. Ну и неча уж юлить. Перевел дух Алексей да заглянул сыну в глаза и молвил наказ главный:
– Не вздумай, не вздумай, чтобы я тебя хоронил.
И отец, и сын вовсю ощутили силу сих слов.
– Не для того мы с женою вымаливали тебя, наследника, чтобы язык твой бескостный навлек беду! – продолжал Алексей. – Ежели помрешь раньше моего, считай, и меня погубил. Не страшусь смерти, покуда знаю, что бьется сердце твое и кровь наша, Басманова, не остыла. Токмо об том и прошу, Федь. Не помирай раньше моего.
Федор кивнул, ударил в грудь:
– Клянусь, отче.
Обессилел Басман-отец, и плечи могучие, богатырские опустились.
– Как я предстал пред государем, так увидел, что вопрошает владыка не ради глумления, – молвил Федор. – В очах…
– Адашевы, царствие им небесное, тоже в очи догляделись, – прервал Алексей. – Не туда глядишь. Я токмо и остался от всего круга ближнего. А потому, что смотрю да прислушиваюсь где надобно.
– Неужто все так скверно, что я за Игоря просил? – каялся Федор, проводя рукой по лицу.
Горела кожа бледная, потом исходила. Алексей пожал плечами.
– Царь меня вызвал. Вот сам и суди: скверно ль?
Федор глаза как вытаращит. Отец так и глядит в упор.
– С чем же? – наконец решился спросить Федор.
* * *
Притих двор, затаился. А звезды озорные так и знай себе хохочут там, на небосводе, хороводы водят, заливаются. Жаль, что отсюдова не слыхать. Чистое небо, ясное, но такое далекое. Не ждал Басман-отец добрых вестей в столь поздний час. Оттого ли стоял, глядел себе на хороводы серебра в ночи.
В палате свету был лишь жалкий клочок свечи. Сидел государь во главе широкого стола, как на пиру шумном, да пустовали скамьи. Толстая свеча таяла, напоминая развалившееся жирное животное. Царь в черное облачился. Сидит, глаза застыли, точно черной смолой налитые.
Мгновение – и Алексей опустился бы в земном поклоне, но Иоанн жестом упредил, велел сесть по правую руку. Басман тотчас же подчинился.
– Федя за Игоря Черных просил, – молвил владыка.
Алексей промолчал. Неслышно, как ручища вздрогнули, кулаки сжалися.
– Неужто не сдох, сквернодей псоватый? – спросил Алексей.
– А это уж откудова знать? – молвил царь. – Свора-то опричная ни живого, ни мертвого сыскать не может. Чай, и не сдох.
Басман склонил главу.
– Тебе же наказано дело Черных. – Слова, вываливаясь во мрак, обрастали крылами и клювами.
Кружили стаей под самым потолком, хлопали, стращали, стрекотали.
– Заходит князь Черных, щурится с мороза, рука об руку. Шубу отряхнул – слева, справа дважды. Трясет и трясет, а снег не тает… и шныряют москолуды, трескочут, грохочут, ржут, а воздух до того душный, до того жадный, что пожрал все, до последнего писка. И стряхивает снег неталый, стряхивает, а из-под длани выплывает морда, а затем и сам черт. И прирос к Черных, горб уродский, и пьет кровь евонную, и ест все, чем князь себя потчует…
Царь Иоанн прервал бормотание так же резко, как и начал. Басманов застыл, боялся шевельнуться. Глаза невольно косились на порог. Будто бы и впрямь лежит неталый снег.
– Неча бисер метать, – хрипло усмехнулся Иоанн.
Дыхание не успело вновь сделаться ладным. Федор осенил себя крестным знамением.
– Я верю, владыка, – прошептал Басманов тихо, но пламенно, как на исповеди.
– Ежели так, не смей просить за сына еретика, – пресек государь, возвращаясь на трон.
– Сын несет бремя отца? – вопрошал Федор.
– Ты несешь бремя своего отца, Басманов? Я ли не несу бремени отцов своих? Пущай же Игорь Черных и юн, но всяко отец его на плече черта выхаживал. Нету мне никакой отрады ни в гибели князя, ни в изгнании сына евонного. Справедливость принадлежит тем, кто вершит ее.
– А милость – тем, кто явит ее ближнему. – Федор вцепился в парчу золотую и тут же руку отдернул.
Злато ли пламенем горело али заря лучезарная, да длань ошпарило. Стиснул кулак Басманов да прошипел сквозь боль:
– С бременем судить неправедных, великий владыка, на твоих плечах и власть, и сила, и свобода миловать, светлый владыка!
– Прочь, Басманов, – сквозь злость и горечь велел государь.
Федор вновь вцепился в одеяние царское. Жжение вновь пронзило длань. Басманов припал губами к золотой парче, упал в земном поклоне. Вся боль, поднявшаяся в сердце, пламенно взывала, как взывают припадая к мощам чудотворца. Последний раз Федор вознес молитву в душе своей, не смея вымолвить вслух. Как можно бросать слова священной молитвы в тот же воздух, которым дышит черт? В тот же воздух, в котором не тает снег?
Вознеся последний раз молитву за ближнего, Федор вышел вон, уповая на чудо. Голова раскалывалась.
* * *
Сон неохотно подступал, да, как назло, под дверью занялась возня, а затем и брань, кому-то смачно дали по лбу. Федор приподнялся, а голова будто на подушке и осталась али куда дальше закатилась – иначе отчего все потемнело? Как прояснилось, на пороге отец стоял. Из-за свирепого воеводы выглядывал холоп, рожу потирая от оплеухи.
«Не к добру…»
– Ты просил за Черных?! – Басман-отец захлопнул дверь.
Грохот стряхнул сон, который и так не шел, так что даже не жалко.
– Владыка сам молвил, чтобы я просил… – не успел договорить Федор, как отец выругался.
Пот холодный выступил, а голову разбитую, напротив, в жар бросило.
– Коли государь велит: «Проси!» – так лоб расшибай в земном поклоне, – поучал Басман-отец, – да клянись, остолоп несчастный, что ничего тебе не надобно! «Твоею добротою, светлый владыка!» И в пол!
Вскинул Алексей руки к небу, а на землю вновь сплюнул ругань, брань, да такую едкую, что будь подле молоко – скисло, пасись скотина – подохла.
– Рассудил царь: виновны, стало быть, так и есть! И неча гадать, в чем грех да вина. Не твоего ума, и Бога благодари в утренней и вечерней молитве, что не тебе судить! Приговор царский… эдак тебя кобыла-то лихо! Совсем башка твоя бестолковая надоела, вот и ищешь, как расправиться с нею, чтобы на плечи не давила?
Голос ослаб, дрогнул. Федор все слышал, и даже боле. Выдал себя Басман-отец и страх свой выдал. Ну и неча уж юлить. Перевел дух Алексей да заглянул сыну в глаза и молвил наказ главный:
– Не вздумай, не вздумай, чтобы я тебя хоронил.
И отец, и сын вовсю ощутили силу сих слов.
– Не для того мы с женою вымаливали тебя, наследника, чтобы язык твой бескостный навлек беду! – продолжал Алексей. – Ежели помрешь раньше моего, считай, и меня погубил. Не страшусь смерти, покуда знаю, что бьется сердце твое и кровь наша, Басманова, не остыла. Токмо об том и прошу, Федь. Не помирай раньше моего.
Федор кивнул, ударил в грудь:
– Клянусь, отче.
Обессилел Басман-отец, и плечи могучие, богатырские опустились.
– Как я предстал пред государем, так увидел, что вопрошает владыка не ради глумления, – молвил Федор. – В очах…
– Адашевы, царствие им небесное, тоже в очи догляделись, – прервал Алексей. – Не туда глядишь. Я токмо и остался от всего круга ближнего. А потому, что смотрю да прислушиваюсь где надобно.
– Неужто все так скверно, что я за Игоря просил? – каялся Федор, проводя рукой по лицу.
Горела кожа бледная, потом исходила. Алексей пожал плечами.
– Царь меня вызвал. Вот сам и суди: скверно ль?
Федор глаза как вытаращит. Отец так и глядит в упор.
– С чем же? – наконец решился спросить Федор.
* * *
Притих двор, затаился. А звезды озорные так и знай себе хохочут там, на небосводе, хороводы водят, заливаются. Жаль, что отсюдова не слыхать. Чистое небо, ясное, но такое далекое. Не ждал Басман-отец добрых вестей в столь поздний час. Оттого ли стоял, глядел себе на хороводы серебра в ночи.
В палате свету был лишь жалкий клочок свечи. Сидел государь во главе широкого стола, как на пиру шумном, да пустовали скамьи. Толстая свеча таяла, напоминая развалившееся жирное животное. Царь в черное облачился. Сидит, глаза застыли, точно черной смолой налитые.
Мгновение – и Алексей опустился бы в земном поклоне, но Иоанн жестом упредил, велел сесть по правую руку. Басман тотчас же подчинился.
– Федя за Игоря Черных просил, – молвил владыка.
Алексей промолчал. Неслышно, как ручища вздрогнули, кулаки сжалися.
– Неужто не сдох, сквернодей псоватый? – спросил Алексей.
– А это уж откудова знать? – молвил царь. – Свора-то опричная ни живого, ни мертвого сыскать не может. Чай, и не сдох.
Басман склонил главу.
– Тебе же наказано дело Черных. – Слова, вываливаясь во мрак, обрастали крылами и клювами.
Кружили стаей под самым потолком, хлопали, стращали, стрекотали.