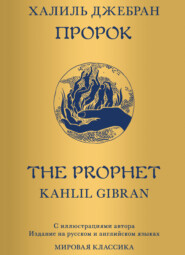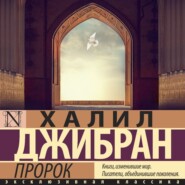По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иисус Христос – Сын Человеческий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы просим тебя оберегать его, что сил твоих достанет, и сможет он тогда хранить всех нас».
Сказав так, взобрались они на своих верблюдов, и больше уж мы не видели их никогда.
Теперь Мария, казалось, не столь рада появленью первенца своего, полностью подавленная чудесами и сюрпризами. Она смотрела на своего младенца, затем лицо свое к окошку обращала и всматривалась пристально в небеса, как будто ей являлись там виденья.
А затем вслушивалась в голоса долин.
Ребенок рос телом и душой, он был отличен от других детей. Он был всегда поодаль.
Но был Иисус все равно любим жителями Назарета, и сердцем знала я почему.
Довольно часто он отдавал еду свою прохожим. И раздавал другим детишкам сладости, коими угощала я его.
Он взбирался на деревья в саду моем фруктовом, чтобы набрать фруктов, причем никогда не оставлял их только для себя. Еще он состязался с другими мальчиками в беге и, поскольку был он быстроног, нарочно отставал, чтобы могли другие тоже победить.
И когда я зазывала его спать, Иисус мне говорил: «Скажи же матери моей и остальным, что только тело спит мое. Мой разум остается вместе с тем Разумом, что входит в мою комнату и в мое утро».
И многие люди удивлялись словам его, ведь был он – мальчик юный, но, на взгляд мой, со старой памятью.
И вот теперь мне говорят, что не увижу я его уж больше никогда. Но как могу поверить в то я, что видели они? Я слышу громкую тишину его голоса и его песни в моем доме. И когда бы ни целовала я щеку дочери моей, его аромат вспоминает мое сердце, и кажется мне, его я вижу в объятиях моих.
Но дочь моя не говорит со мной о сыне-первенце. Иногда мне кажется, что стремление мое к нему куда больше, чем ее собственное. Она стоит как нерушимый день, как будто бронзовая она статуя, мое же сердце, расплавившись, течет в потоке боли.
Может быть, она знает то, чего не знаю я. Когда-нибудь она расскажет мне об этом.
Говорит Сын Человеческий «Видение»
С прорвавшейся сквозь заслоны ночью опустился сон на землю. И я пошел дорогой к морю, размышляя: «Море никогда не спит, а потому оно способно бессонную душу утешить».
Когда я выбрался на брег, туман, спустившийся с горы, окрестности в вуаль закутал, подобно лику женщины младой. Я вглядывался в нервные волны, вслушивался в пение хвалебное и думал о вечной силе, что за всем стоит, – той силе, что бурею спешит, и лаву из вулкана извергает, розами смеется и в ручьях поет. Тут я нежданно увидал три фигуры, на скале сидящие. Я о них споткнулся, как будто неизвестной силой подкошенный.
В нескольких шагах от них магическая власть эта заставила меня на месте замереть. В момент сей поднялся один из духов и заговорил гласом, что, казалось, звучал из глубин морских:
«Жизнь без любви сравнима с древом без цвета и плодов. А любовь без красоты подобна цветку без благоуханья или плоду без семени… Жизнь, любовь и красота едины суть; не способны они миру друг без друга являться».
Второй возвысил голос свой, звучавший водопадом: «Жизнь без волнений и страстей подобна году без весны.
А волненье не по праву весне подобно в бесплодной пустыне… Жизнь, волнение, страсти и право едины суть; не способны они миру друг без друга являться».
Голосом, подобным грому, заговорил со мной и третий дух: «Жизнь без свободы сродни плоти без души, а свобода без раздумий подобна духу возмущенному… Жизнь, свобода и мысль едины суть, ибо вечны и непреходящи они. Никогда».
Три духа восстали и заговорили вместе:
«Что пробуждает любовь,
Волненье порождает и
Творит свободу.
Все это божество порядка триединого…
Лишь Бог есть отраженье
Духа во Вселенной».
Шум незримых крыльев пронзил внезапно тишину, и содрогнулись существа эфира.
Закрыв глаза, прислушивался я к словам, уж отзвучавшим. Но как только я оглянулся вокруг, заметил только тумана паутину, что оплела все море. Я приблизился к тем скалам, на которых увидал трех фантомов, но обрел только к небу убегающие облака ладана.
Свидетельские показания Асафа, оратора Тирского
О речах Иисуса
Что должен я сказать о его выступлениях? Возможно, когда-нибудь о нем заговорят, будут передавать его слова, что слышали от него, из уст в уста. Ибо он был обаятелен, и сияние дня окутывало его.
Мужчины и женщины глазели на него куда больше, чем прислушивались к его аргументам. В то время он говорил с беднотой о духе и о том, что дух влияет на тех, кто слушает его. В молодости я слыхал ораторов Рима, Афин и Александрии. Молодой Назаретянин был не похож на них на всех.
Они собирали свои слова, очаровывая музыкой слух, но если вы слышали его хотя бы раз, ваше сердце покидало плоть и отправлялось странствовать по землям неведомым.
Он рассказывал всевозможнейшие истории или высказывался иносказательно, и казалось, что истории его и притчи никогда еще никто не слыхивал в Сирии. Он казался природы круговращеньем, вращением времен, годов и поколений.
Он начинал историю словами: «Пахарь шел вперед по полю, разбрасывая семена».
Или: «Когда-то жил-был богатый человек, имевший великое множество виноградников».
Или: «Пастух подсчитывал своих овец и обнаружил, что одной овцы недоставало».
И находил слова, заставлявшие прислушиваться к нему, к их простой сути и к древности их дней.
В сердце все мы пахари, и все мы любим виноградники наши. На пастбище же нашей памяти все мы пастухи и стадо, и потерявшаяся овца.
И нива, коей едва коснулся плуг, и винный пресс, и молотилка.
Он знал источник нашей древней души и упорно пробирался к переплетеньям сердец наших.
Греческие и римские ораторы говорят о жизни как о чем-то отвлеченном и кажущемся. Назаретянин говорил об устремленьях сердца.
Они смотрели на жизнь глазами минимизированной свободы. Он смотрел на жизнь в свете вольной воли Бога.
Я часто думаю о том, что говорил он толпе, о том, что человек подобен горе.
В его сознании беднота была чем-то иным, чем для командующих ораторов Афин или Рима.
Он богом не был, он был музыкантом Слова.
Говорит Сын Человеческий «Другой язык»
Я родился три дня назад, и как только меня уложили в шелковую колыбельку, я озирался с изумленным страхом на новую землю, что со всех сторон окружала меня. Моя мать спросила взмокшую повитуху: «Как там мой сын?».
И повитуха ответила: «Здоровенький мальчик, госпожа. Я накормила его временем; и никогда прежде не видала я столь веселого малютку».
А я негодовал, а я кричал: «Это же неправда, мама: ложе слишком жестко для меня, и молоко, что выпил я, слишком горько для губ моих, и запах груди слишком тошнотворен для ноздрей моих, и я абсолютно несчастлив».
Но мать моя не поняла меня, не поняла и повитуха; мой язык слишком сильно отличался от языка земель, в какие я явился.
Сказав так, взобрались они на своих верблюдов, и больше уж мы не видели их никогда.
Теперь Мария, казалось, не столь рада появленью первенца своего, полностью подавленная чудесами и сюрпризами. Она смотрела на своего младенца, затем лицо свое к окошку обращала и всматривалась пристально в небеса, как будто ей являлись там виденья.
А затем вслушивалась в голоса долин.
Ребенок рос телом и душой, он был отличен от других детей. Он был всегда поодаль.
Но был Иисус все равно любим жителями Назарета, и сердцем знала я почему.
Довольно часто он отдавал еду свою прохожим. И раздавал другим детишкам сладости, коими угощала я его.
Он взбирался на деревья в саду моем фруктовом, чтобы набрать фруктов, причем никогда не оставлял их только для себя. Еще он состязался с другими мальчиками в беге и, поскольку был он быстроног, нарочно отставал, чтобы могли другие тоже победить.
И когда я зазывала его спать, Иисус мне говорил: «Скажи же матери моей и остальным, что только тело спит мое. Мой разум остается вместе с тем Разумом, что входит в мою комнату и в мое утро».
И многие люди удивлялись словам его, ведь был он – мальчик юный, но, на взгляд мой, со старой памятью.
И вот теперь мне говорят, что не увижу я его уж больше никогда. Но как могу поверить в то я, что видели они? Я слышу громкую тишину его голоса и его песни в моем доме. И когда бы ни целовала я щеку дочери моей, его аромат вспоминает мое сердце, и кажется мне, его я вижу в объятиях моих.
Но дочь моя не говорит со мной о сыне-первенце. Иногда мне кажется, что стремление мое к нему куда больше, чем ее собственное. Она стоит как нерушимый день, как будто бронзовая она статуя, мое же сердце, расплавившись, течет в потоке боли.
Может быть, она знает то, чего не знаю я. Когда-нибудь она расскажет мне об этом.
Говорит Сын Человеческий «Видение»
С прорвавшейся сквозь заслоны ночью опустился сон на землю. И я пошел дорогой к морю, размышляя: «Море никогда не спит, а потому оно способно бессонную душу утешить».
Когда я выбрался на брег, туман, спустившийся с горы, окрестности в вуаль закутал, подобно лику женщины младой. Я вглядывался в нервные волны, вслушивался в пение хвалебное и думал о вечной силе, что за всем стоит, – той силе, что бурею спешит, и лаву из вулкана извергает, розами смеется и в ручьях поет. Тут я нежданно увидал три фигуры, на скале сидящие. Я о них споткнулся, как будто неизвестной силой подкошенный.
В нескольких шагах от них магическая власть эта заставила меня на месте замереть. В момент сей поднялся один из духов и заговорил гласом, что, казалось, звучал из глубин морских:
«Жизнь без любви сравнима с древом без цвета и плодов. А любовь без красоты подобна цветку без благоуханья или плоду без семени… Жизнь, любовь и красота едины суть; не способны они миру друг без друга являться».
Второй возвысил голос свой, звучавший водопадом: «Жизнь без волнений и страстей подобна году без весны.
А волненье не по праву весне подобно в бесплодной пустыне… Жизнь, волнение, страсти и право едины суть; не способны они миру друг без друга являться».
Голосом, подобным грому, заговорил со мной и третий дух: «Жизнь без свободы сродни плоти без души, а свобода без раздумий подобна духу возмущенному… Жизнь, свобода и мысль едины суть, ибо вечны и непреходящи они. Никогда».
Три духа восстали и заговорили вместе:
«Что пробуждает любовь,
Волненье порождает и
Творит свободу.
Все это божество порядка триединого…
Лишь Бог есть отраженье
Духа во Вселенной».
Шум незримых крыльев пронзил внезапно тишину, и содрогнулись существа эфира.
Закрыв глаза, прислушивался я к словам, уж отзвучавшим. Но как только я оглянулся вокруг, заметил только тумана паутину, что оплела все море. Я приблизился к тем скалам, на которых увидал трех фантомов, но обрел только к небу убегающие облака ладана.
Свидетельские показания Асафа, оратора Тирского
О речах Иисуса
Что должен я сказать о его выступлениях? Возможно, когда-нибудь о нем заговорят, будут передавать его слова, что слышали от него, из уст в уста. Ибо он был обаятелен, и сияние дня окутывало его.
Мужчины и женщины глазели на него куда больше, чем прислушивались к его аргументам. В то время он говорил с беднотой о духе и о том, что дух влияет на тех, кто слушает его. В молодости я слыхал ораторов Рима, Афин и Александрии. Молодой Назаретянин был не похож на них на всех.
Они собирали свои слова, очаровывая музыкой слух, но если вы слышали его хотя бы раз, ваше сердце покидало плоть и отправлялось странствовать по землям неведомым.
Он рассказывал всевозможнейшие истории или высказывался иносказательно, и казалось, что истории его и притчи никогда еще никто не слыхивал в Сирии. Он казался природы круговращеньем, вращением времен, годов и поколений.
Он начинал историю словами: «Пахарь шел вперед по полю, разбрасывая семена».
Или: «Когда-то жил-был богатый человек, имевший великое множество виноградников».
Или: «Пастух подсчитывал своих овец и обнаружил, что одной овцы недоставало».
И находил слова, заставлявшие прислушиваться к нему, к их простой сути и к древности их дней.
В сердце все мы пахари, и все мы любим виноградники наши. На пастбище же нашей памяти все мы пастухи и стадо, и потерявшаяся овца.
И нива, коей едва коснулся плуг, и винный пресс, и молотилка.
Он знал источник нашей древней души и упорно пробирался к переплетеньям сердец наших.
Греческие и римские ораторы говорят о жизни как о чем-то отвлеченном и кажущемся. Назаретянин говорил об устремленьях сердца.
Они смотрели на жизнь глазами минимизированной свободы. Он смотрел на жизнь в свете вольной воли Бога.
Я часто думаю о том, что говорил он толпе, о том, что человек подобен горе.
В его сознании беднота была чем-то иным, чем для командующих ораторов Афин или Рима.
Он богом не был, он был музыкантом Слова.
Говорит Сын Человеческий «Другой язык»
Я родился три дня назад, и как только меня уложили в шелковую колыбельку, я озирался с изумленным страхом на новую землю, что со всех сторон окружала меня. Моя мать спросила взмокшую повитуху: «Как там мой сын?».
И повитуха ответила: «Здоровенький мальчик, госпожа. Я накормила его временем; и никогда прежде не видала я столь веселого малютку».
А я негодовал, а я кричал: «Это же неправда, мама: ложе слишком жестко для меня, и молоко, что выпил я, слишком горько для губ моих, и запах груди слишком тошнотворен для ноздрей моих, и я абсолютно несчастлив».
Но мать моя не поняла меня, не поняла и повитуха; мой язык слишком сильно отличался от языка земель, в какие я явился.