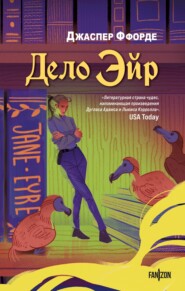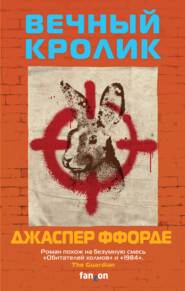По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Оттенки серого
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Шестьдесят восемь пунктов, две фут-свечи, левый глаз, – сказал он, устанавливая линзу в очки, потом набрал необходимое световое значение на импульсной лампе.
Послышалось тихое гудение – аппарат заряжался. Я указал время, код, дозировку и глаз на лбу у мужчины, чтобы другие специалисты поняли, в чем заключалось лечение. Когда маячок зарядился, отец распорядился: «Закрыть глаза!» – и все присутствующие крепко зажмурились. Раздался пронзительный визг, и маячок послал вспышку через корректировочную линзу на сетчатку пациента и далее – в зрительную кору мозга. Меня охватило странное чувство, что к этому невозможно привыкнуть. Я впервые проходил лечение вспышкой в шесть лет, по случаю потери зрения (лихорадка Эбола с корью и гриппом штамма H6N14), и в течение краткого, восхитительного мгновения мог видеть музыку и слышать цвета – по крайней мере, ощущение было именно такое. Потом весь день я исходил слюной (обычный симптом), и неделю меня преследовал запах хлеба (необычный симптом).
Пурпурный напрягся – свет полился в зрительную кору мозга. Светло-оранжевая линза должна была привести его в сознание. Как именно это делалось, никто не знал. Хроматикология приносила громадную пользу Коллективу, но теоретические основы ее оставались почти неразработанными. Правда, для отца это было неважно. Он не смешивал цвета и не занимался поиском новых, а лишь диагностировал проблему и выбирал нужный оттенок. Когда он хотел поскромничать, то называл это «лечение числами».
Пациент смеялся, не приходя в сознание: такое случалось редко, но все же случалось. Однако ему становилось все хуже.
– Мигающий желтый, – сказал я, глядя в монитор.
– Мы теряем его, – выдохнул отец, протягивая обратно линзу 35–89–96. – Дай мне 116–37–97.
Я нашел светло-зеленый диск и вручил ему. Отец вставил ее – на этот раз в другую половину очков – и снова крикнул: «Закрыть глаза!» Последовала вспышка, левая нога мужчины резко дернулась, а диоды замигали красным и желтым. Отец тут же велел подать ему 342–94–98, чтобы добиться ровного красно-охристого свечения и уничтожить эффект от 35–89–96. Это немедленно возымело действие, но совсем не то, которого мы хотели. Пурпурный дернулся, все признаки жизни исчезли, монитор на ухе загорелся ровным красным светом.
– Он умер, – сказал я.
Все, кто смотрел на нас, глубоко вдохнули.
– Только от 342–94–98? – недоверчиво протянул отец. – Не может быть!
Он проверил линзу, которую я дал ему: никакой ошибки. Отец вытер лоб, вынул из чемоданчика песочные часы на девяносто секунд и поставил их на пол. После остановки сердца кровь отливала от сетчатки в течение девяноста минут. После смерти глаза в пациента уже нельзя было влить никакого цвета: бесповоротный конец. Плохо, очень плохо: не только потому, что мы имели дело с пурпурным, но и потому, что срок его жизни оказался ниже ожидаемого. А это означало разбазаривание общественных средств.
Отец попробовал дать еще несколько вспышек с разными стеклами – без толку – и принялся думать вслух. Песок в часах медленно тек.
– Все безрезультатно, – выдохнул он, обращаясь ко мне. – Здесь нет очень нужных вещей.
Все вокруг молчали, затаив дыхание. И продавцы, и покупатели тупо глядели перед собой. Помощи ждать было не от кого. НСЦ работала только с декоративными, а не с лечебными цветами. Конечно, они производили смеси, позитивно действовавшие на сознание граждан, но лишь под надзором главного специалиста по цвету.
Внезапно меня осенило:
– Ничего не вышло, – прошептал я, – потому что он не пурпурный!
Отец нахмурился. Подмена собственного цвета была делом почти что неслыханным и каралась штрафом в тридцать тысяч баллов – можно сказать, полной перезагрузкой. Все равно что сразу сесть на ночной поезд.
– Даже если так, что нам это дает? – тихо произнес он. – Красный, синий, желтый? И в каких пропорциях? Перебор всех возможных комбинаций займет полгода!
Я посмотрел на запястье мужчины, которое все еще продолжал сжимать, и впервые заметил, что ладони его шершавы, что у одного пальца не хватает фаланги, а ногти неухоженны и обгрызены.
– Серый.
– Серый?
Я кивнул. Отец уставился на меня, потом на пациента, потом на часы, где падали последние песчинки. Не имея никакого плана действий – разве что «ждать и надеяться», – отец убрал корректировочные линзы, выбрал стеклянный кружочек, вновь прокричал: «Закрыть глаза!» – и направил вспышку на мужчину. Эффект оказался моментальным и очень сильным: серый дернулся, сердце его забилось, индикатор над монитором засветился ровным желтым. После нескольких тщательно продуманных перемен линз – реакция пациента каждый раз была незамедлительной и, что важнее, предсказуемой – мы добились мигающего зеленого света. Собравшиеся с облегчением заговорили о том, что отец заслуживает минимум наивысшего отзыва, А++, и дополнительного талона на торт за спасение жизни такого – предположительно – именитого гражданина. Мы с отцом обменялись взглядами, но он решил пока что не раскрывать тайны. Во-первых, это могло повредить полному восстановлению. Во-вторых, Коллектив нуждался в каждом сером – намного больше, чем в пурпурных, хотя об этом никто не осмеливался говорить.
Кто-то вбежал в магазин и тоже встал на колени рядом с пациентом. Это оказалась госпожа Рози, младший цветоподборщик, которая изумленно поглядела на отца, заметив, сколько цифр с обозначениями цветов записано у мужчины на лбу. Отец быстро рассказал ей о цветоподмене.
– Вы шутите? – спросила Рози, сразу же занервничав, словно, столкнувшись со столь тяжким преступлением, она невольно становилась соучастницей.
– Я серьезен, как никогда в жизни. Можете сказать, кто это?
– Он не из наших, – ответила девушка, присмотревшись. – Возможно, приговоренный к перезагрузке серый, которому нечего терять. Дайте-ка взглянуть…
Она расстегнула рубашку серого в поисках почтового индекса, но в этом месте кожа была порезана, и рубец не позволял прочесть код целиком. Итак, этот человек не только совершил цветоподмену, но и попытался скрыть свой индекс.
– Похоже, что начинается с ЛД2, – сказал отец, внимательно разглядывая изуродованную плоть, – но остального разобрать не могу.
Госпожа Рози взяла левую руку серого. Фаланга среднего пальца была отрублена, чтобы нельзя было идентифицировать его по ногтевому ложу. Кто бы это ни был, он не хотел, чтобы его опознали.
– Как по-вашему, отчего ему стало плохо? – спросила девушка, заполняя листок с отзывом, чтобы мы могли двинуться дальше.
Отец пожал плечами:
– Вероятно, плесень.
– Гниющий?
Она сказала это слишком громко, и все присутствующие мигом устремились к двери, где возникла давка: страх подхватить плесень возобладал над любопытством и хорошими манерами. Я никогда не видел, как восемь человек выходят все вместе в одну дверь. Им это как-то удалось. Через двадцать секунд мы остались одни.
– Итак, – объявил отец, питавший склонность к таким проказам, – не знаю, что там у него, но точно не плесень. Позволю себе предположить, что аневризма. Я рекомендовал бы гамму светло-желтых оттенков – жервe[8 - Жерве – сорт французского мягкого сыра, нежно-желтого цвета. (Прим. ред.)] и тому подобные – для дальнейшего лечения. Но только он должен находиться без сознания. Иначе появится плесень.
– Да, – раздумчиво произнесла госпожа Рози, – мы обязаны всегда помнить об этом.
И замолчала. Говорить о плесени не любил никто.
Слово
2.3.02.62.228: Официально утвержденные бранные слова перечислены в Приложении 4 (разрешенные восклицания). Все прочие ругательства строго запрещены. Кара за нарушение: по усмотрению префекта, но не более ста баллов.
Госпожа Рози дала отцу положительный отзыв, мы пожелали ей хорошего дня и вышли обратно под лучи летнего солнца. Ослабив галстуки, насколько это было разрешено, мы огляделись. Площадь, еще недавно суетливая и шумная, превратилась в пустыню. Местные отгородили участок в пятьдесят ярдов шириной, считая от магазина: действие обычное в таких случаях, но совершенно бесполезное. Носитель плесени становится заразным лишь через час после смерти: кожа покрывается тонкими серыми щупальцами, и мертвец, в чьих легких быстро разрастается забивающая их масса, в предсмертном кашле невольно выбрасывает губительные споры в воздух. Вот тут впору паниковать и выпрыгивать из ближайшего окна: неважно, на каком оно этаже, открыто или нет.
Если не считать аварий на производстве, внезапного отказа внутренних органов, нападений мегазверей и бандитов, а также – как в моем случае – возникшего на пути дерева ятевео, именно плесень обрывает жизнь людей. Не обращая внимания на цветовые барьеры, она поражает и крепких фиолетовых, и слабых бесцветных. Однажды утром ты обнаруживаешь, что у тебя внезапно выросли ногти, а локти онемели, – и к обеду ты уже годишься разве что на жир для свечей да на костную муку. Но удивительно: хотя плесень – убийца номер один, очень мало людей умирают от нее. После того как жертве поставлен диагноз, ее, едва успевшую проскрежетать слова прощания заплаканным родственникам, увозят в ближайшую Зеленую комнату, где погружают в сладкий сон, из которого она переходит в объятия смерти. И предсмертный кашель настигает такого страдальца в морозилке – так безопаснее.
Зеваки у ограждения – небольшая кучка – расступились, когда мы подошли, но засыпали нас вопросами. Отец отвечал как можно более двусмысленно. Нет, ему неизвестно, подтверждено наличие плесени или нет. Да, госпожа Рози полностью контролирует ситуацию. Потом к нему пристал репортер «Гранатского вестника», попросив об интервью. Отец поначалу ответил отказом, но, узнав, что журналист пишет и для «Спектра», согласился поговорить с ним. Я в это время разглядывал собравшихся горожан и смотрел на часы. До поезда оставалась тридцать одна минута. Если на контроле сегодня стоит медлительный желтый, то мы имеем все шансы провести в Гранате еще один день.
И вот тогда я увидел Джейн. Конечно, тогда я еще не знал, что она Джейн. Ее имя стало мне известно лишь позднее, когда она сделала невозможное. Обычно я не пялюсь на девушек, особенно когда рядом Констанс. Но тут я попросту разинул рот. Я был поражен, изумлен, ошеломлен – выберите сами нужное слово. А почему – не знаю. Даже сейчас, если выдернуть меня, уже полупереваренного, из ятевео, посадить на пенек и спросить: «Эдди, старина, да что же именно ты в ней нашел?» – я пролепечу что-нибудь: очень маленький, очень курносый носик, и меня сочтут ненормальным и бросят обратно. Возможно, меня поразило не то, что в ней было, а то, чего не было. Она не была ни высокой, ни стройной, без каких-либо особенностей в осанке или манере держаться. Большие глаза глядели вопросительно и затягивали меня, как омут, где-то на самом дне кипела холодная ярость. Но думаю, главным была дикарская загадочность, сквозившая во всем ее виде. Вот в чем крылся секрет ее сокрушительного очарования. Я моментально забыл о Констанс с ее важными родственниками и какое-то время мог думать только о серой девушке в грубых холщовых штанах.
Я попытался придумать, как начать разговор, – я держал наготове несколько фраз, которые можно было расценить как смешные или умные (но не то и другое одновременно). Почему именно мне потребовалось заговорить с ней – не представляю. Через полчаса я собирался покинуть этот город – вероятно, навсегда. Но короткий разговор с этой девушкой скрасил бы мне весь день, а ее улыбка – всю неделю.
Мысли мои внезапно прервались – по толпе пошел шепот. Лжепурпурного вынесли – но вынесли на носилках, а не в бесшовном пластиковом мешке: ко всеобщему облегчению, то оказалась не плесень. И только лицо Джейн выражало не облегчение, но озабоченность. Мое сердце забилось быстрее. Она знала этого человека – а возможно, знала и что он там делал. Я шагнул вперед и коснулся ее руки – без всякого злого умысла, – но Джейн отреагировала бурно. Метнув на меня взгляд, полный холодной ненависти, она угрожающе прорычала:
– Тронь еще раз, и я сломаю твою долбаную челюсть.
Я застыл как вкопанный – не столько из-за услышанных мной очень плохих слов, сколько из-за угрозы физической расправы по отношению к тому, кто стоял выше ее в цветовом смысле. И все это – без малейшей провокации с моей стороны. Я оскорбился:
– Не смей так со мной говорить!
– Это еще почему?
Ответ был очевиден, но я все же выдал его:
Послышалось тихое гудение – аппарат заряжался. Я указал время, код, дозировку и глаз на лбу у мужчины, чтобы другие специалисты поняли, в чем заключалось лечение. Когда маячок зарядился, отец распорядился: «Закрыть глаза!» – и все присутствующие крепко зажмурились. Раздался пронзительный визг, и маячок послал вспышку через корректировочную линзу на сетчатку пациента и далее – в зрительную кору мозга. Меня охватило странное чувство, что к этому невозможно привыкнуть. Я впервые проходил лечение вспышкой в шесть лет, по случаю потери зрения (лихорадка Эбола с корью и гриппом штамма H6N14), и в течение краткого, восхитительного мгновения мог видеть музыку и слышать цвета – по крайней мере, ощущение было именно такое. Потом весь день я исходил слюной (обычный симптом), и неделю меня преследовал запах хлеба (необычный симптом).
Пурпурный напрягся – свет полился в зрительную кору мозга. Светло-оранжевая линза должна была привести его в сознание. Как именно это делалось, никто не знал. Хроматикология приносила громадную пользу Коллективу, но теоретические основы ее оставались почти неразработанными. Правда, для отца это было неважно. Он не смешивал цвета и не занимался поиском новых, а лишь диагностировал проблему и выбирал нужный оттенок. Когда он хотел поскромничать, то называл это «лечение числами».
Пациент смеялся, не приходя в сознание: такое случалось редко, но все же случалось. Однако ему становилось все хуже.
– Мигающий желтый, – сказал я, глядя в монитор.
– Мы теряем его, – выдохнул отец, протягивая обратно линзу 35–89–96. – Дай мне 116–37–97.
Я нашел светло-зеленый диск и вручил ему. Отец вставил ее – на этот раз в другую половину очков – и снова крикнул: «Закрыть глаза!» Последовала вспышка, левая нога мужчины резко дернулась, а диоды замигали красным и желтым. Отец тут же велел подать ему 342–94–98, чтобы добиться ровного красно-охристого свечения и уничтожить эффект от 35–89–96. Это немедленно возымело действие, но совсем не то, которого мы хотели. Пурпурный дернулся, все признаки жизни исчезли, монитор на ухе загорелся ровным красным светом.
– Он умер, – сказал я.
Все, кто смотрел на нас, глубоко вдохнули.
– Только от 342–94–98? – недоверчиво протянул отец. – Не может быть!
Он проверил линзу, которую я дал ему: никакой ошибки. Отец вытер лоб, вынул из чемоданчика песочные часы на девяносто секунд и поставил их на пол. После остановки сердца кровь отливала от сетчатки в течение девяноста минут. После смерти глаза в пациента уже нельзя было влить никакого цвета: бесповоротный конец. Плохо, очень плохо: не только потому, что мы имели дело с пурпурным, но и потому, что срок его жизни оказался ниже ожидаемого. А это означало разбазаривание общественных средств.
Отец попробовал дать еще несколько вспышек с разными стеклами – без толку – и принялся думать вслух. Песок в часах медленно тек.
– Все безрезультатно, – выдохнул он, обращаясь ко мне. – Здесь нет очень нужных вещей.
Все вокруг молчали, затаив дыхание. И продавцы, и покупатели тупо глядели перед собой. Помощи ждать было не от кого. НСЦ работала только с декоративными, а не с лечебными цветами. Конечно, они производили смеси, позитивно действовавшие на сознание граждан, но лишь под надзором главного специалиста по цвету.
Внезапно меня осенило:
– Ничего не вышло, – прошептал я, – потому что он не пурпурный!
Отец нахмурился. Подмена собственного цвета была делом почти что неслыханным и каралась штрафом в тридцать тысяч баллов – можно сказать, полной перезагрузкой. Все равно что сразу сесть на ночной поезд.
– Даже если так, что нам это дает? – тихо произнес он. – Красный, синий, желтый? И в каких пропорциях? Перебор всех возможных комбинаций займет полгода!
Я посмотрел на запястье мужчины, которое все еще продолжал сжимать, и впервые заметил, что ладони его шершавы, что у одного пальца не хватает фаланги, а ногти неухоженны и обгрызены.
– Серый.
– Серый?
Я кивнул. Отец уставился на меня, потом на пациента, потом на часы, где падали последние песчинки. Не имея никакого плана действий – разве что «ждать и надеяться», – отец убрал корректировочные линзы, выбрал стеклянный кружочек, вновь прокричал: «Закрыть глаза!» – и направил вспышку на мужчину. Эффект оказался моментальным и очень сильным: серый дернулся, сердце его забилось, индикатор над монитором засветился ровным желтым. После нескольких тщательно продуманных перемен линз – реакция пациента каждый раз была незамедлительной и, что важнее, предсказуемой – мы добились мигающего зеленого света. Собравшиеся с облегчением заговорили о том, что отец заслуживает минимум наивысшего отзыва, А++, и дополнительного талона на торт за спасение жизни такого – предположительно – именитого гражданина. Мы с отцом обменялись взглядами, но он решил пока что не раскрывать тайны. Во-первых, это могло повредить полному восстановлению. Во-вторых, Коллектив нуждался в каждом сером – намного больше, чем в пурпурных, хотя об этом никто не осмеливался говорить.
Кто-то вбежал в магазин и тоже встал на колени рядом с пациентом. Это оказалась госпожа Рози, младший цветоподборщик, которая изумленно поглядела на отца, заметив, сколько цифр с обозначениями цветов записано у мужчины на лбу. Отец быстро рассказал ей о цветоподмене.
– Вы шутите? – спросила Рози, сразу же занервничав, словно, столкнувшись со столь тяжким преступлением, она невольно становилась соучастницей.
– Я серьезен, как никогда в жизни. Можете сказать, кто это?
– Он не из наших, – ответила девушка, присмотревшись. – Возможно, приговоренный к перезагрузке серый, которому нечего терять. Дайте-ка взглянуть…
Она расстегнула рубашку серого в поисках почтового индекса, но в этом месте кожа была порезана, и рубец не позволял прочесть код целиком. Итак, этот человек не только совершил цветоподмену, но и попытался скрыть свой индекс.
– Похоже, что начинается с ЛД2, – сказал отец, внимательно разглядывая изуродованную плоть, – но остального разобрать не могу.
Госпожа Рози взяла левую руку серого. Фаланга среднего пальца была отрублена, чтобы нельзя было идентифицировать его по ногтевому ложу. Кто бы это ни был, он не хотел, чтобы его опознали.
– Как по-вашему, отчего ему стало плохо? – спросила девушка, заполняя листок с отзывом, чтобы мы могли двинуться дальше.
Отец пожал плечами:
– Вероятно, плесень.
– Гниющий?
Она сказала это слишком громко, и все присутствующие мигом устремились к двери, где возникла давка: страх подхватить плесень возобладал над любопытством и хорошими манерами. Я никогда не видел, как восемь человек выходят все вместе в одну дверь. Им это как-то удалось. Через двадцать секунд мы остались одни.
– Итак, – объявил отец, питавший склонность к таким проказам, – не знаю, что там у него, но точно не плесень. Позволю себе предположить, что аневризма. Я рекомендовал бы гамму светло-желтых оттенков – жервe[8 - Жерве – сорт французского мягкого сыра, нежно-желтого цвета. (Прим. ред.)] и тому подобные – для дальнейшего лечения. Но только он должен находиться без сознания. Иначе появится плесень.
– Да, – раздумчиво произнесла госпожа Рози, – мы обязаны всегда помнить об этом.
И замолчала. Говорить о плесени не любил никто.
Слово
2.3.02.62.228: Официально утвержденные бранные слова перечислены в Приложении 4 (разрешенные восклицания). Все прочие ругательства строго запрещены. Кара за нарушение: по усмотрению префекта, но не более ста баллов.
Госпожа Рози дала отцу положительный отзыв, мы пожелали ей хорошего дня и вышли обратно под лучи летнего солнца. Ослабив галстуки, насколько это было разрешено, мы огляделись. Площадь, еще недавно суетливая и шумная, превратилась в пустыню. Местные отгородили участок в пятьдесят ярдов шириной, считая от магазина: действие обычное в таких случаях, но совершенно бесполезное. Носитель плесени становится заразным лишь через час после смерти: кожа покрывается тонкими серыми щупальцами, и мертвец, в чьих легких быстро разрастается забивающая их масса, в предсмертном кашле невольно выбрасывает губительные споры в воздух. Вот тут впору паниковать и выпрыгивать из ближайшего окна: неважно, на каком оно этаже, открыто или нет.
Если не считать аварий на производстве, внезапного отказа внутренних органов, нападений мегазверей и бандитов, а также – как в моем случае – возникшего на пути дерева ятевео, именно плесень обрывает жизнь людей. Не обращая внимания на цветовые барьеры, она поражает и крепких фиолетовых, и слабых бесцветных. Однажды утром ты обнаруживаешь, что у тебя внезапно выросли ногти, а локти онемели, – и к обеду ты уже годишься разве что на жир для свечей да на костную муку. Но удивительно: хотя плесень – убийца номер один, очень мало людей умирают от нее. После того как жертве поставлен диагноз, ее, едва успевшую проскрежетать слова прощания заплаканным родственникам, увозят в ближайшую Зеленую комнату, где погружают в сладкий сон, из которого она переходит в объятия смерти. И предсмертный кашель настигает такого страдальца в морозилке – так безопаснее.
Зеваки у ограждения – небольшая кучка – расступились, когда мы подошли, но засыпали нас вопросами. Отец отвечал как можно более двусмысленно. Нет, ему неизвестно, подтверждено наличие плесени или нет. Да, госпожа Рози полностью контролирует ситуацию. Потом к нему пристал репортер «Гранатского вестника», попросив об интервью. Отец поначалу ответил отказом, но, узнав, что журналист пишет и для «Спектра», согласился поговорить с ним. Я в это время разглядывал собравшихся горожан и смотрел на часы. До поезда оставалась тридцать одна минута. Если на контроле сегодня стоит медлительный желтый, то мы имеем все шансы провести в Гранате еще один день.
И вот тогда я увидел Джейн. Конечно, тогда я еще не знал, что она Джейн. Ее имя стало мне известно лишь позднее, когда она сделала невозможное. Обычно я не пялюсь на девушек, особенно когда рядом Констанс. Но тут я попросту разинул рот. Я был поражен, изумлен, ошеломлен – выберите сами нужное слово. А почему – не знаю. Даже сейчас, если выдернуть меня, уже полупереваренного, из ятевео, посадить на пенек и спросить: «Эдди, старина, да что же именно ты в ней нашел?» – я пролепечу что-нибудь: очень маленький, очень курносый носик, и меня сочтут ненормальным и бросят обратно. Возможно, меня поразило не то, что в ней было, а то, чего не было. Она не была ни высокой, ни стройной, без каких-либо особенностей в осанке или манере держаться. Большие глаза глядели вопросительно и затягивали меня, как омут, где-то на самом дне кипела холодная ярость. Но думаю, главным была дикарская загадочность, сквозившая во всем ее виде. Вот в чем крылся секрет ее сокрушительного очарования. Я моментально забыл о Констанс с ее важными родственниками и какое-то время мог думать только о серой девушке в грубых холщовых штанах.
Я попытался придумать, как начать разговор, – я держал наготове несколько фраз, которые можно было расценить как смешные или умные (но не то и другое одновременно). Почему именно мне потребовалось заговорить с ней – не представляю. Через полчаса я собирался покинуть этот город – вероятно, навсегда. Но короткий разговор с этой девушкой скрасил бы мне весь день, а ее улыбка – всю неделю.
Мысли мои внезапно прервались – по толпе пошел шепот. Лжепурпурного вынесли – но вынесли на носилках, а не в бесшовном пластиковом мешке: ко всеобщему облегчению, то оказалась не плесень. И только лицо Джейн выражало не облегчение, но озабоченность. Мое сердце забилось быстрее. Она знала этого человека – а возможно, знала и что он там делал. Я шагнул вперед и коснулся ее руки – без всякого злого умысла, – но Джейн отреагировала бурно. Метнув на меня взгляд, полный холодной ненависти, она угрожающе прорычала:
– Тронь еще раз, и я сломаю твою долбаную челюсть.
Я застыл как вкопанный – не столько из-за услышанных мной очень плохих слов, сколько из-за угрозы физической расправы по отношению к тому, кто стоял выше ее в цветовом смысле. И все это – без малейшей провокации с моей стороны. Я оскорбился:
– Не смей так со мной говорить!
– Это еще почему?
Ответ был очевиден, но я все же выдал его: