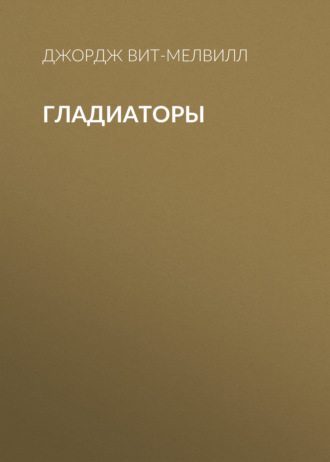
Гладиаторы
Бретонец поднял ее своими мощными руками, и она, с видом блаженства и облегчения, оперлась головой на его плечо. Очаровательные глаза ее еще ничуть не потеряли своей прелести, хотя смерть скоро должна была смежить их. Может быть, никогда не светились они таким мягким и нежным блеском, как теперь, когда были устремлены на предмет безумной, глубокой и всепоглощающей любви. И в то время как одна рука ее касалась острия дротика, удерживая его на месте, другая ласкала лицо Эски, орошавшего ее слезами.
Голос ее быстро слабел, и силы оскудевали, но непреклонное мужество рода Муциев оставалось твердым и непобедимым.
– Я торжествую, – сказала римлянка прерывающимся голосом, с трудом переводя дыхание. – Я торжествую, хотя достигла этого ценой жизни. Что же! Победа никогда не может считаться слишком дорого добытой. Эска, я поклялась спасти тебя, поклялась, что ты будешь мой, и я сдержала свою клятву: я купила тебя своею кровью и даю тебя… даю тебя… этой отважной девушке, которая тоже рисковала своей жизнью, чтобы спасти тебя, и тоже сильно любит тебя, но не так, как я, даже не наполовину! Эска, милый мой, наклонись ко мне, наклонись ко мне ближе!..
Она все более и более склоняла голову бретонца к своей голове и в то же время положила его руку на острие дротика, все еще находившегося в ее боку.
– Я не могу больше выносить этой пытки, – прошептала она, – но не горько умереть на твоих руках и от твоей руки.
С этими словами она сжала руку Эски в своей руке и заставила его тихо вытянуть железо из раны. Как только рана открылась, кровь хлынула из нее темно-красной струей, потекла сильным ручьем, и источник жизни быстро иссяк. Нежные члены ее затрепетали, улыбка на прекрасном лице делалась все слабее и слабее, глаза с той же нежностью смотрели на любимого человека, и губы не оставляли его руки. И душа этой прекрасной, гордой и самовластной женщины отлетела в вечность.
Ничего не видя от слез, Эска и Мариамна минуту не могли думать ни о чем ином, кроме печальной судьбы той, кто дважды спас одного из них от смерти и к кому другая еще так недавно обращалась с мольбой о помощи в смертельной опасности. Как ни сильна была любовь бретонца к сидевшей рядом с ним девушке, он не мог не выказать горькой печали при виде умершей Валерии, лежавшей у его ног. В свою очередь и Мариамна забыла о своих печалях и страданиях, проникшись святым чувством жалости к той, которая пожертвовала своим счастьем, богатством, даже самой жизнью ради человека, любимого так страстно, как редко может любить что-либо на земле слабая человеческая природа.
Но теперь уже живые требовали внимания, и бесполезно было уделять его мертвым. Хотя и страшно раненный, Калхас начал подавать признаки жизни. Камень, сваливший его на мостовую, действительно причинил ему роковую рану, но, оглушив его на время, он, однако, не убил его насмерть. Краска снова показалась на его лице, он испустил тяжелый и долгий вздох, затем поднес свою руку ко лбу, показывая этим печальным жестом, что сознание вернулось к нему.
Пренебрегая опасностью и почти не замечая неистовой борьбы, совершающейся кругом, Эска грустно склонился над старым другом, думая только о том, как бы помочь Мариамне, старающейся облегчить страдания старика.
А между тем поток сражающихся повсюду увеличивался и схватка становилась все более и более ужасной. «Распущенный легион», опьяненный успехом и уверенный, что его поддержкой является позади вся римская армия, теснил иудеев с удвоенной энергией и торжеством охотника, готового схватить свою добычу. Евреи, как дикие звери захваченные в тенета, отступая, боролись со страшной отвагой отчаяния. Под предводительством Элеазара, являвшего всюду, где необходимо было его присутствие, они делали постоянные вылазки из храма, силясь отвоевать отнятое пространство, по крайней мере до входа во двор язычников. Этот двор сделался теперь ареной, где шел смертельный рукопашный бой, и несколько раз переходил из рук в руки.
Гиппий, как и всегда, выделялся в схватке. У него была честолюбивая мысль ввести гладиаторов в священную ограду до прихода Тита, и, достигая этой цели, он, казалось, превзошел сегодня все свои прежние блестящие подвиги, сделавшие его заметным. Гирпин, лишь только поднялся, снова отдался делу, как будто ему, как мифологическому Титану, ласки матери-земли придали новую силу. Не раз замечал он своему начальнику, что тот слишком рискует, отважно вступая в бой с сильнейшим врагом, но на всякое предупреждение получал один и тот же ответ. Показывая своим мечом, с которого капала кровь, на золоченую крышу храма, блестевшую над их головами, начальник бойцов говорил:
– Вот где выкуп царства. Я хочу сам завоевать его для легиона и разделить всем вам поровну.
Такая перспектива внушала гладиаторам более чем обыкновенную отвагу, и хотя не один сражающийся смельчак падал на землю перед лицом врага и не одни смелые глаза останавливались в последний раз на страстно желанной добыче, прежде чем навсегда потускнеть, – однако оставшиеся в живых сражались еще с большей яростью, вступали в рукопашный бой, наносили удар за ударом, пока двор не покрылся трупами и мостовая не сделалась скользкой от залившей ее крови.
Во время минутной передышки Гиппий, расставлявший своих людей, снова оттеснивших иудеев в храм, с целью попытать новую решительную атаку, очутился в том углу двора, где Эска и Мариамна все еще стояли на коленях подле распростертого на земле Калхаса. Без малейших признаков изумления или ревности, но просто с полуравнодушной-полупрезрительной улыбкой начальник бойцов узнал своего старого ученика и девушку, виденную им когда-то в Риме, под портиком дома трибуна. Сняв свою тяжелую каску, он отер пот и на минуту оперся на щит.
– Пройди назад, – сказал он, – и уведи эту девушку с собой, потому что она, кажется, повиснет у тебя на шее, как собачонка, везде, где нужно будет биться. Пройдите к десятому легиону и скажите Лицинию, командующему им, что вы мои пленники. Это для тебя, красавица, единственное спасение, и ни одна женщина до этого дня не может пожалеть о том, что доверилась Гиппию. Ты можешь также сказать ему, Эска, что если он не поторопится, так я сумею и без него взять храм и все находящееся в нем. Ну, двигайся, дружище! Тут не место женщине. Уведи ее как можно скорее.
Но бретонец показал на снова потерявшего сознание Калхаса, голова которого опиралась на колени Мариамны. Его жест привлек внимание Гиппия на землю, усыпанную трупами. Он уже готов был разразиться зверским хохотом и сказать своему ученику, чтобы он оставил эту падаль коршунам, но слова замерли у него на устах, внезапно покрывшихся смертельной бледностью, глаза бессмысленно уставились вперед, и щит, на который он опирался, упал на мостовую с громким шумом.
Здесь, прямо у его ног, на золотых латах лежал бездыханный труп Валерии, и сердце отважного, смелого и беспринципного солдата сжалось от боли. Что-то подсказало ему, что его гордость и эгоизм начали то дело, которое закончилось здесь перед ним, к его вечному укору.
Никогда не думал он, что любил ее с такой страстью. Он вспомнил, как будто это было только накануне, о том дне, когда он увидел ее в первый раз, прекрасную, разодетую, надменную, свысока смотрящую из своей ложи с подушками в рядах всадников[43] с тем пренебрежительным видом, который в его глазах придавал ей такую заманчивую красоту. Он вспомнил, как презрение Валерии перешло в поощрение, когда глаза их встретились, и он, гладиатор, почувствовал, что сердце его забилось под щитом, хотя он стоял лицом к лицу со смертельным врагом. Он вспомнил, с каким наслаждением встречал ее взгляд, который она подарила ему в знак знакомства. Этот взгляд являлся единственной связью между ними, и она смотрела на него все с большей смелостью и свободой, по мере того как игры шли далее, до тех пор, пока он, желая встретить этот взор еще раз в критический момент борьбы, не упал, тяжело раненный неотраженным ударом противника. Но как щедро он был вознагражден за это, когда во время упорного боя, опустившись коленом на землю и в этом невыгодном положении торжествуя наконец победу над врагом, он различил среди тысячи восторженных криков толпы спокойное и мелодичное «euge!», прозвучавшее так ясно и нежно для ушей, хотя и произнесенное одними лишь губами этой гордой патрицианки, которую с этой минуты он возымел смелость любить.
Позднее, когда он был допущен к ней в определенные дни, как сладостны были для него эти перемены надежд и страха, вызываемые ее обращением с ним, то как с почетным гостем, то как с простым человеком низшего положения; как отрадно было видеть ее благосклонность, не чуждую осторожности, которая пробуждала в его сердце, совершенно бесстрастном, как казалось ему, – такие пылкие желания! Как счастлив был он, зная, что в определенные часы он увидит ее, или сохраняя приятное воспоминание о последней встрече с ней до той минуты, когда уже можно было думать о новом свидании! Она была для него как бы прекрасною розой, распустившейся в саду: сначала довольствуются только созерцанием ее красоты, прежде чем возникает желание насладиться ее благоуханием, и, наконец, хотят грубо сорвать ее со стебля, чтобы прижать к сердцу Тогда она вянет и быстро умирает, и с какой печалью и горечью сожалеют о том, что не оставили ее на кусте, где она красовалась во всем блеске! Много остается других цветов в цветнике, но ни один из них не может сравниться с розой.
Странная вещь! Гиппий почти совсем не думал о недавнем прошлом. Валерия Рима, а не Валерия Иудеи заставляла обливаться кровью его сердце. Только недолго он мысленно переносился к тем немногим упоительно счастливым дням, когда она сопровождала его на Восток, и не останавливался ни на безумной радости, ни на том чувстве торжества, которое длилось так недолго. Он забыл, как будто этого вовсе и не было, о капризном и самовольном нраве патрицианки, о скуке, какую она все более и более испытывала подле него, и о том презрении, какое она почти не старалась скрыть. Теперь не оставалось ничего от той стесненности, того отвращения и нетерпения, какие они оба испытывали в палатке, в присутствии друг друга, от тех язвительных обид, горьких и оскорбительных упреков и окончательного разрыва, которые в эти минуты нельзя было ничем ни извинить, ни загладить. Она снова была той, прежней Валерией, с надменным видом, обольстительных взором, со звучным и веселым голосом, идущим от сердца, еще не ведающего ни борьбы, ни поражения, той Валерии, во всякой прихоти которой, во всяком жесте было что-то опасно-привлекательное, что-то неуловимое, нераздельно присущее таким женщинам, как она. Само по себе бесценное, это свойство является роковым, так как влечет обладательницу к собственной гибели и вместе с тем гибели другого.
О, почему она не могла говорить с ним еще один раз, только один раз, хотя бы ее словами суровой укоризны или обидного презрения! При мысли о том, что он никогда более не услышит ее голоса, ему казалось, что он спит, но все чувства доказывали ему, что он бодрствует, что это холодная действительность, так как Валерия лежала здесь, перед ним, бездыханная и окруженная убитыми людьми его верного легиона. Да, она пала здесь, в первом ряду, прекрасная и юная, и погибла среди всех их!
Больше он не обращал внимания ни на Калхаса, ни на Эску. Он не оглянулся и не посмотрел ни на новую атаку своих собратьев, ни на усилившийся яростный бой. Гиппий наклонился над телом убитой и почтительно прикоснулся губами к ее бледному, похолодевшему лбу. Затем он поднял одну из ее длинных темных прядей и, не обращая внимания на то, что она была обагрена кровью, осторожно и тщательно отрезал ее мечом и, расстегнув латы, положил прядь под железо к своему сердцу.
Потом он обернулся и попрощался с Эской. Бретонец едва узнал его, до такой степени изменился его голос и вид. И, следя за ним взором, пока он с мечом в руке не исчез в толпе сражающихся, Эска инстинктивно понял, что он в последний раз сказал прости гладиатору Гиппию.
Глава XVII
Орлы над трупом
Испустив хорошо знакомый гладиаторам военный крик и став во главе горсти героев, оставшейся от «распущенного легиона», Гиппий повел свой отряд, чтобы сделать последнюю попытку против защитников храма, которые с целью обороны торопливо выстроили баррикаду из кой-каких бревен и дубовых досок, взятых из священной ограды. Баррикада легко могла защитить их от дротиков, стрел и метательных снарядов римлян и остановить неодержимый набег нападающих, которые в нерешительности стояли перед этим препятствием, смотрели по сторонам и требовали военные машины и другие снаряды, обеспечивающие успех атаки. Напрасно Гиппий несколько раз увлекал их вперед с целью взять эту неожиданную крепость. Она была высока, тверда, покрыта копьями, усеяна стрелками, ко всему этому, находилась под защитой неукротимого Элеазара, и гладиаторы с уроном отступали после каждого набега. Сам начальник их был тяжело ранен. Он не поднял своего щита после того, как уронил его подле Валерии, и, взбираясь на баррикаду, получил удар от неизвестной руки. Удерживая кровь складками туники и отыскивая под броней прядь волос Валерии, он с беспокойством смотрел назад, стараясь увидеть, не приближается ли обещанное и теперь совершенно необходимое подкрепление. Он был уверен, что его сократившийся отряд уже не может овладеть храмом без содействия легионов.
Гиппий ослабел от потери крови, и его сила и отвага в эту минуту изменили ему. Страдание сменило то опьянение триумфом, какое незадолго владело им, но мысленно он всегда был с гладиаторами. Движением руки и словами он приказал им устроить посредством щитов так называемую черепаху, чтобы защитить себя от града стрел, сыпавшихся с вышины баррикады. Спокойные, самоуверенные, прекрасно дисциплинированные гладиаторы тотчас же прибегли к этому превосходному средству обороны, и едва лишь слова приказа начальника слетели с его уст, как он уже стоял один, подле этой крепости из движущейся стали.
Когда он стоял, отвернувшись от врага, и обсуждал, насколько безопасны его люди, его бок на минуту остался незащищенным, и секунду спустя иудейская стрела поразила его в сердце. Верный себе, он, прежде чем упасть, взмахнул мечом над головой и издал крик торжества, так как его ослабевшее ухо услышало звук римских рожков, а помутившиеся глаза увидели сверкающие копья и блестящие каски легионов, приближавшихся твердым шагом, в грозном боевом порядке, чтобы докончить дело, начатое им с горстью героев.
Подняв голову в этот момент, Эска увидел, как начальник бойцов, падая, сделал пол-оборота, чтобы его мертвое лицо было обращено к врагу.
Наконец необходимые подкрепления пришли. От башни Антонии до самого храма римские солдаты в последние минуты сделали широкую и удобную насыпь. В армии, где каждый солдат был столь же хорошим инженером, сколь и бойцом, не могло быть недостатка в нужных для подобного дела руках. Большая часть прилежащей стены, равно как и сама башня, поспешно были разобраны для материала, и в то время как гладиаторы брали приступом двор язычников, их товарищи из этого материала устроили широкий, удобный и отлогий скат, стройно восходя по которому целые колонны могли прийти на помощь первым осаждающим.
Эти колонны вел Юлий Плацид со своим обычным искусством и хладнокровием. В недавней схватке с Эской он получил настолько серьезную рану что уже не мог сесть на коня, но среди азиатских союзников было много дрессированных для войны слонов, и он выступал вперед, сидя на одном из этих огромных животных и управляя с высоты этой двигающейся башни движениями своих войск. Несколько стрелков, вместе с ним сидевших на этом терпеливом и умном животном, при удобном случае беспокоили врага, пуская в него стрелы.
Управляемый вожаком, черным, подвижным сирийцем, сидящим за его ушами, слон с комической и торжественной осторожностью карабкался на отлогий скат. Хотя и встревоженный запахом крови, он выступал твердым шагом, и его массивность поражала ужасом иудеев, не привыкших встречаться на войне с подобными врагами.
Оружие трибуна было еще блистательнее и одежда еще великолепнее, чем обыкновенно. Казалось, войдя на парадную восточную лошадь, он усвоил отчасти роскошь и пышность Востока. Но, как всегда, он воодушевлял солдат теми остротами и грубыми шутками, какие они понимали и всего лучше ценили в минуту опасности.
Как только он вошел во двор через пробитые в стене и наполовину разрушенные ворота, его глаз увидел еще горящие угли, разбросанные на мостовой пророком горя. Эти головни подсказали ему средство разрушить баррикаду, и, подшучивая над отбитыми гладиаторами, он упрекнул их саркастическим тоном, что они не придумали воспользоваться этим для своей цели.
Подозвав Гирпина, командовавшего теперь остатком «распущенного легиона», он велел ему собрать своих людей и построить их в форме «черепахи», чтобы перенести головни к основанию деревянной баррикады.
– Защищающимся не найти капли воды, – сказал он, смеясь, – и им невозможно будет погасить пылающего снаружи огня. В пять минут все это сухое дерево будет охвачено пламенем, и меньше чем через десять минут у ворот будет такой густой дым, что я пройду в них со своим слоном и солдатами!
Подкрепленные свежими войсками, гладиаторы быстро повиновались его приказаниям. Горящие головни были собраны и притиснуты к деревянному оплоту, так быстро возвысившемуся. Высушенные палящим солнцем и беспорядочно нагроможденные в кучу на скорую руку, эти доски немедленно дали пищу пламени, и осажденными овладело отчаяние, когда залетавшие искры и треск дерева показали им, что теперь медленно разрушалось и последнее средство защиты.
Трибун улучил минуту и, наклонившись, спросил Гирпина о его начальнике. С печатью печали на лице и с болью в сердце старый храбрец-гладиатор показал пальцем на то место, где лежал Гиппий со спокойным, неподвижным лицом, с крепко зажатой в правой руке саблей.
– Habet! – со зверским смехом воскликнул трибун, и в то время как недовольный и расстроенный Гирпин удалялся от него, в его уме мелькнула мысль о том, что его последний соперник убит, последняя помеха устранена, что теперь остается еще раз бросить кости, и блестящий выигрыш будет принадлежать ему.
В самом деле, Плациду оставалось теперь сделать один шаг, и он достигал того, чего всего более желал и жаждал на земле. В двенадцати шагах от него лежал соперник, внушавший ему опасения, что он будет в первом ряду среди сегодняшних триумфаторов, пользовавшийся, как ему было известно, благоволением Тита и лишивший его благосклонности любимой женщины. Он не простил Валерии и не забыл прошлого, но он не менее ненавидел и того, с кем она добровольно бежала. Когда он соединился перед Иерусалимом с римской армией и встретил прекрасную, но несчастную, униженную патрицианку в шатре гладиатора, он прибег к хитрости и отложил свое мщение, дожидаясь случая унизить еще более эту женщину и нанести смертельный удар мужчине. Теперь этот последний лежал у ног его слона, а женщина, одиноко оставшаяся там, в лагере, без друзей и всеми покинутая, неизбежно и немедленно должна была, по его мнению, сделаться его добычей. Он не мог и подозревать, что эти люди, так отравлявшие жизнь друг другу, соединились наконец в холодном объятии смерти. Ко всему этому, он подоспел как раз вовремя, чтобы увенчать свое чело венком, уже сплетенным для него «распущенным легионом» и его вождем. Опоздай он хоть немного, и Гиппий, получивший поддержку в новых войсках, удостоился бы чести первым войти в храм. Приди он чуть-чуть позднее, и его триумф разделил бы с ним Лициний, уже двигавшийся в арьергарде со своим десятым легионом. Теперь же ему представлялся великолепный случай, и его отделяло от победы не больше двух десятков иудейских копий и нескольких куч горящего дерева.
Наклонившись к вожаку, он приказал ему вести слона через огонь, чтобы тот своей тяжестью немедленно уничтожил все, что еще оставалось от баррикады, и проложил солдатам дорогу к храму. Честолюбие заставляло его не терять ни минуты. Сириец развернул шаль, прикрепленную к своему поясу завязал глаза животному и, сделав его посредством этого слепым, погладил его, заставляя идти вперед. Хотя и сильно перепуганный, слон повиновался, и нечего было и думать, что полусожженная и разломанная преграда могла бы устоять под давлением такой чудовищной массы. Последняя надежда осажденных, казалось, исчезла, как вдруг Элеазар соскочил с баррикады в дым и, быстро подбежав под животное, проскользнул под его поднятым хоботом и с яростью несколько раз вонзил свою саблю в его живот. С каждым новым ударом слон издавал громкий и ужасный рев, крик боли и ужаса, смешанного с бешенством. Затем, опустившись на колени, он медленно и грузно упал на землю, задавив самоотверженного зилота своей страшной тяжестью и сбросив кучку стрелков во двор.
Никогда более Элеазар не произнес ни одного слова. Лев от Иуды умер – умер, как жил, жестоким, стойким, непобедимым, преданным Иерусалиму. Мариамна узнала его в ту минуту, когда он бросился с баррикады, но отец и дочь не обменялись взорами. Бледная и неподвижная, она видела, как он исчез под слоном, и крик ужаса, вырвавшийся из ее побледневших уст, когда она поняла его участь, был заглушен неистовыми криками боли, гнева и ужаса, наполнившими воздух в ту минуту, когда грузное животное заколыхалось и упало.
Плацид ринулся на мостовую, как брошенный из пращи камень. В бессилии, хотя и в полном сознании, лежа на земле, он тотчас же узнал Эску и мертвую Валерию. Но страшная досада на неуспех и ненависть, клокотавшая в его сердце, изгнали из него всякую боль или угрызения совести. Он злобно уставился на бретонца и заскрипел зубами от ярости, чувствуя, что не может даже поднять свою обессилевшую руку. Но иудейские воины приблизились к нему, подняв оружие для удара, и Эска только одну минуту видел красивое и мрачное лицо трибуна, искаженное отчаянием.
И однако прошли годы, прежде чем это зрелище изгладилось из его памяти. Часто его мысленным взорам представлялась богатая туника, прекрасные латы, стройное дрожащее тело, блуждающие глаза с выражением безнадежности, ненависти и вызова и к тому миру, который он покидал, и к тому, в который отходил.
Двор быстро наполнялся темным, желтоватым дымом, обвивавшимся вокруг коньков храма, и в этом дыму все вновь и вновь прибывавшие бойцы казались мрачными привидениями, беснующимися и сражающимися, как в сновидении. Скоро огненные языки вырвались из-под облака, окружавшего стены и столбы здания. Они скользили и играли по золотой поверхности крыши и поднимались там и сям огненными пирамидами. Через несколько мгновений послышался шум и треск, которым опустошительная стихия возвещает свою победу, и целое море искр, посыпавшихся как град во дворе язычников, показало, что огонь охватил храм со всех четырех углов.
Один из гладиаторов, в минуту безумной забывчивости, схватил пылающую головню с баррикады, остатки которой были разбросаны во время атаки его товарищей после смерти Элеазара, и бросил ее в окно храма, открытое над его головой. Упав на резное дерево, украшавшее раму окна, головня тотчас же превратилась в сильный сноп огня, для которого совершенно сухое дерево здания с резными орнаментами представило хорошую пищу. Пожар охватывал одну галерею за другой, пока наконец все здание не сделалось одним колоссальным костром. Во всех углах города, от стены Агриппы до Елеонской горы, от Ассирийского лагеря до долины Энномской, лица друзей и врагов, побледневшие от страха, негодования или изумления, наблюдали, как этот огненный столп катился, расширялся, изменял направление, восходил все выше и выше в летнее небо и как при каждой перемене направления ветра колыхалось это багровое знамя разгрома, все более усиливавшегося в объеме, силе и жестокости.
Тогда иудеи поняли, что их великое несчастье исполнилось до конца, что проклятие, доселе бывшее для них только мертвой буквой и непонятным свитком, буквально пало на их голову в потоках огня, что святилище их было разорено, счастье исчезло навеки, национальная самостоятельность уничтожена и место, знавшее их, уже не признает их снова.
Римляне, когорты которых двигались вперед сжатыми колоннами с целью помочь товарищам и легионы которых выстраивались плотными четырехугольниками во всех открытых местах города, чтобы целиком завладеть им, смотрели на пожар храма с любопытством и ужасом. Сам Тит, возбужденный победой и полный безумной радости удовлетворенного честолюбия, со вздохом сострадания отвернулся от зрелища: он хотел бы оказать пощаду врагу, если бы только тот доверился ему, и спас бы этот памятник иудейской нации и религии сколько для ее славы, столько же и для своей собственной.
В то время как пламя поднималось, дым заволакивал всю окрестность, когда всюду среди града пылающих головней рушились огромные дубовые балки, самый мрамор горел и трескался от жары, а драгоценный металл лился с крыши в виде пылающей расплавленной массы, в это время Эска и Мариамна, почти задыхающиеся во дворе язычников, не в силах были искать себе спасение в бегстве и бросить на явную смерть обессиленное тело Калхаса.

