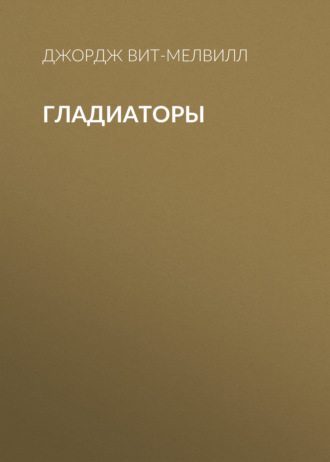
Гладиаторы
– Что же ты от меня хочешь? – с нетерпением спросила Валерия. – Разве я могу повалить вашу укрепленную стену голыми руками? Разве мы с тобой можем взять приступом оплот и вырвать его от врага, чтобы разделить меж собой, как воины легиона делят добычу?
И с этими словами она засмеялась странным, подавленным смехом.
– О, не смотри на меня так гневно, – продолжала еврейка, стоя на коленях. – Прошу тебя… умоляю тебя помочь мне…
Да, хотя бы даже ты должна была убить меня затем собственной рукой, если я не угодила тебе словом или делом. Выслушай, благородная матрона, я могу провести римскую армию в город, я могу ввести солдат Тита в Иерусалим, отряд за отрядом и когорту за когортой. Они застанут врасплох моих соотечественников и легко завладеют городом. Только одно прошу я за это, за весь мой позор, за мою черную измену – пусть они пощадят двух узников, прикованных в наружном дворе храма, пусть пощадят их жизнь ради той, кто продал в этот вечер честь, отечество и семью!
Несколько минут Валерия размышляла. План обещал много хорошего. С зоркостью женщины она угадала тайну еврейки. Тысячи предположений быстро зародились в ее уме – предположений любви, торжества, мести. Выполнимо ли было это? Она приняла в соображение положение стены, направление, какому следовала Мариамна, сопоставила все, что знала по картам, изученным ею в шатре Гиппия (эти карты, добытые отчасти путем измены, отчасти путем наблюдений, представляли каждую улицу и площадь Иерусалима), и сказала себе, что препятствий не было. В чистосердечии же просительницы у нее не было сомнений.
– Так есть тайный ход? – спросила она, все еще сохраняя сухой и надменный тон с целью скрыть испытываемые в действительности мучения. – Какой он длины и сколько человек могут пройти по нему в ряд?
– Он не должен быть длинен, – отвечала еврейка, – так как идет только от этой кучи хвороста к террасе дома моего отца. Три человека пройдут по нему в ряд. Заклинаю тебя, проведи меня к Титу, чтобы я могла склонить его начать приступ, пока не поздно. Я сама поведу солдат в город.
Благородство Валерии не могло устоять против ее эгоизма. Как у многих женщин, в ней был сильно развит инстинкт обладания, и, как только она увидела, что еще можно спасти Эску, грубое желание перехватить его овладело ею.
– Ты просишь у меня спасти бретонца для еврейки, – отвечала она с насмешкой. – Знаешь ли ты, с кем говоришь? Слушай, девушка! Ведь я и сама любила этого Эску, я его любила так, что в сравнении с моей любовью твоя любовь то же, что блеск моего шлема перед ярким заревом этого бивуачного огня у подножия холма… Я любила его, как тигрица любит детенышей, а иногда как тигрица любит свою жертву! Неужели ты думаешь, что я спасу его для другой?
Лицо Мариамны теперь казалось смертельно бледным, но голос ее был ясен, хотя слаб и печален, когда она отвечала:
– Ты также любишь его! Я это знаю и потому-то и прошу спасти его. Не ради меня, о нет, не ради меня! Когда он будет освобожден, я не увижу его более. Ведь этого ты требуешь от меня? Я охотно соглашаюсь на это от всего сердца, только спаси… спаси его! Ты спасешь его, не правда ли? Ты немедля проведешь меня к Титу? Смотри, полночная стража почти уже окончена.
Но расчетливый ум Валерии начинал уже вырабатывать форму для ее планов. Она видела препятствия, какие встретились бы ей, если бы она тотчас же повела девушку к Титу. Тогда пришлось бы открыть, что она переодета, а римский генерал не был человеком, способным не заметить подобного нарушения законов дисциплины и приличий. Она была бы наказана или, по крайней мере, подверглась бы публичному позору и была бы взята под надежную охрану. Помимо того, государь мог бы не поверить в историю Мариамны и подумать, что весь план ее был только заговором, имеющим целью поймать осаждающих в засаду. Наконец, ей не хотелось уступить еврейке счастье и преимущество спасти того, кого она любила. Нет, у нее был лучший план. Она знала, что Тит предрешил на утро падение города. Ей было известно, что приступ будет произведен на заре. Она убедит Мариамну вернуться в город, а сама хорошо заметит тайный ход. Когда гладиаторы устремятся в атаку, она проведет избранную шайку этим путем в самое сердце города. Эска будет спасен в последнюю минуту, и, конечно, он признает ее власть, когда она придет к нему, как освободительница и завоевательница, как какая-нибудь баснословная героиня родной ему варварской страны. Ей удастся отомстить Гиппию за неприятности многих месяцев; она засмеется в лицо Плациду в знак презрения к ничтожности его планов, к неодержимой смелости и военному искусству, которым он гордился. Даже сам Лициний вынужден будет увидеть ее триумф и признаться, что, как ни запятнана, как ни унижена была его родственница, однако она доказала, по крайней мере, что принадлежала к благородному роду и была достойна имени римлянки. Была, правда, какая-то горечь в воспоминании, какое вызвали в ней слова Мариамны. Их тон напомнил ей слова Эски, также предлагавшего пожертвовать своей любовью, лишь бы спасти ту, кто был ее предметом, и она думала о различии между их сердцами и своим собственным. Но горе только побудило ее к деятельности, и, подняв все еще стоявшую на коленях девушку, она сказала ей с жестом благоволения и ободряющей улыбкой:
– Ты можешь положиться на меня, что он будет спасен, но неблагоразумно будет открывать твой план Титу Он ему не поверит. Он ограничится только тем, что тебя будут стеречь, как узницу, а мне помешают выполнить мой план в должное время. Покажи мне потайной ход, и клянусь тебе всем, что может быть у женщины самого святого, тем, что я всего выше ценила и что потеряла, что орлы развернут свои крылья в храме завтра по восходе солнца и я разрублю узы Эски этим самым мечом, какой ты видишь у меня на привязи! Возвратись прежней дорогой и берегись, как бы тебя не увидели. Если ты увидишь снова Валерию живой, то положись на ее дружбу и заступничество ради того, кого мы обе спасаем от смерти.
Женщины созданы так странно, что, казалось, еврейка и римлянка обменялись лаской, пока одна говорила, а другая слушала эти торжественные слова. Однако Мариамна только скрепя сердце повиновалась доводам Валерии. Медленно и с неохотой вернулась она к скрытому проходу, но выбирать ей не приходилось, а уверенность, с какой римская матрона говорила об успехе, вдохнула веру и в сердце опечаленной и удрученной еврейки.
«По крайней мере, – говорила себе Мариамна, – если я не могу спасти его, я могу умереть с ним, и тогда ничто не в силах будет разлучить нас!»
Несмотря на эту грустную мысль, она чувствовала от нее облегчение в то время, когда спешила скорее соединиться с милым ее сердцу.
Нельзя было терять времени. Когда она бросила последний взгляд назад, на римского часового, снова неподвижно стоявшего на посту, и, прежде чем раздвинуть хворост, сделала ему жест рукой, казалось, просившей его помощи и выражавшей полное доверие, римские рожки нарушили тишину ночи, огласив пространство так называемым «пением петуха», совершавшимся перед рассветом.
Глава XII
Вера
В истории древних и новых времен нет ничего, что могло бы помочь нам составить верное представление о чувствах, с какими иудеи смотрели на свой храм. Для них священное здание не было только образом и олицетворением их религий, оно вместе с тем служило выразителем величия их богатств, горделивой силы, славы, древности и общенародного патриотизма. Величественное по своей архитектуре, подавляющее своими размерами, блещущее украшениями, это сооружение было одновременно и храмом, и крепостью, и дворцом. Если еврей хотел выразить силу, симметрию или великолепие, он сравнивал предмет удивления с храмом. Пророчества постоянно упоминали об этом народном памятнике, отождествляли его с самой нацией, и говорить о разорении или осквернении храма равносильно было угрожать стране разгромом чуждыми войсками или нашествием врага. Его разрушение всегда было синонимом всеобщего разгрома Иудеи, так как иудей не мог допустить возможности национального существования без этого оплота своей веры.
Эта наклонность иудея отождествлять самого себя с местом своего поклонения сильно поддерживалась обычаем народа, ежегодно массами стекавшегося в Иерусалим на праздник пасхального агнца, так что среди потомков Авраама, рассеянных в Сирии, очень мало было таких, которые бы в известный период своей жизни сами не были очевидцами чуда, составлявшего их гордость. В ту эпоху, когда римская армия обложила святой город, в его стенах собралось большее, чем обыкновенно, число поклонников. Они значительно уменьшили уже и тогда редкие запасы пищи и увеличили все иные невзгоды, неизбежные при осаде.
Иудеи защищали свой храм до конца. В то время, когда ужасное кольцо суживалось все более и более со дня на день, когда пригороды были отнимаемы один за другим и башни одна за другой постепенно падали, они скучивались и, так сказать, постепенно, но верно стягивались в верхнем городе и в самом священном месте. Они толпились вокруг храма и полагались на его защиту, как будто сами камни здания были воодушевлены тем возвышенным культом, ради которого они были нагромождены.
Заря еще не занялась, и наружный двор храма, называемый двором язычников, был погружен во мрак, в этот час более густой, чем во всякое другое время ночи. Глаз не различал окружающих колоннад, и только там или здесь выступал какой-нибудь столб или свод арки, рельефно оттененный глубоким мраком, царившим в окружавшей их пустоте. Две-три звезды слабо блестели на открытом небе, но слабый мутный цвет уже предвещал утро, и с далекого моря начинал дуть сырой и холодный ветер, который свистел и крутился вокруг столбов и башенок, терявшихся в пространстве, окружавшем колоссальное здание.
За исключением самой священной ограды, быть может, это место было единственным, где защитники Иерусалима могли быть в безопасности, и здесь-то, на расстоянии копья один от другого, лежали скованными два христианина, осужденные синедрионом на смерть. С куском хлеба (как он ни был редок) и с кружкой воды, данными им той неестественной гуманностью, которая старается сохранить жизнь осужденного для того, чтобы казнить его смертью, они должны были видеть, как медленно и печально тянулись нестерпимо знойные часы субботы, как прошли долгие часы следующей ночи, и теперь должны были видеть рассвет того дня, который будет для них последним днем на земле.
Эска с болью передвинулся на своем месте, и, казалось, его движение вызвало его сотоварища из глубокой задумчивости, которая, судя по радостному тону его голоса, по-видимому, не была из числа удручающих.
– Тоскливы были эти бессонные часы, – сказал Калхас, – и я рад, что они миновали. Взгляни, Эска, небо становится все более и более мутным, как и наша участь на земле. Еще минута, и засияет день, а вместе с ним придет время и нашего окончательного триумфа. Как славен будет тот свет, что воссияет над нами в другом мире, через час после рассвета!
Бретонец с изумлением взглянул на товарища, почти завидуя его искренней радости и довольству, проглядывавшим в тоне его голоса, так как он сам не достиг еще вершины того здания веры, куда с такой уверенностью возносился его друг.
– Через час наступит день, – сказал Эска далеко не таким радостным тоном, – и эти трусы повергнут нас мертвыми на мостовую своими беспощадными каменьями. Хотел бы я освободиться от своих уз и в последнюю минуту иметь под рукой оружие, чтобы умереть, защищая себя с саблей в руке!
– Будь благодарен за то, что от человека не зависит выбор смерти, – кротко отвечал Калхас. – В какое бы смущение приведена была бедная человеческая природа, отыскивая лучший способ и подходящий момент! Особенно же будь благодарен за благо самой смерти. Только бесконечная благость заставила смерть, эту неизбежную освободительницу, подчиниться греху. Какое проклятие могло бы сравниться с бессмертием зла? Неужели ты захотел бы вечно жить в подобном нашем мире, если бы мог? Ты, молодой, сильный и красивый, неужели захотел бы оставаться на земле до той поры, когда тело твое согнется, борода поседеет и глаз потускнеет? Подумал ли ты о тех бесчисленных видах смерти, какие могли бы поразить тебя? Тебя могла бы поразить проказа, и ты, скорченный, сидел бы, как собака, в каком-нибудь скрытном уголке города. Изнуренный голодом, ты мог бы глодать какой-нибудь кусок мертвечины, уже давно объеденный каким-либо несчастным, уже умершим. Ты мог бы погибнуть в огне или задохнуться среди пылающих укреплений, как отряд римских солдат, смерть которых ты сам видел несколько дней назад во время атаки башни Антонии.
– Но это была бы зато смерть солдата, – ответил Эска, для отважной натуры которого казалось столь тяжелым потерять жизнь без боя. – Я мог бы умереть от удара меча или копья и пасть под стенами, как прилично человеку. Но быть побитым насмерть каменьями, как пастухи побивают шакала в его норе, эта участь ужасна и позорна!
– Неужели же ты хотел бы отказаться от предназначенной тебе великой славы? – торжественно спросил Калхас. – Ужели ты предпочел бы умереть как язычник или один из наших жалких грабителей и зилотов, которые все, до самого худшего, не колеблясь, проливают кровь за Иерусалим? Не лучше ли, не отважнее, не благороднее ли ты их всех? Слушай, юноша, слова христианина, который даст отчет за все сказанное перед великим судилищем ранее, чем пройдет час. Ты должен гордиться тем благоволением, какое оказывает тебе Тот, Кого тебе дано будет сегодня узреть и прославить. Ты должен поистине радоваться, что тебе, юному и неопытному ученику, удалось встать в ряды начальников и героев истинной веры. Взгляни на меня, Эска! Ты видишь меня здесь связанным и подобно тебе ожидающим смерти. Сорок лет старался я следовать моему Господу; правда, я шел медленно, очень часто заблуждался, часто низко падал. Сорок лет я молился вечером и утром, прося прежде всего силы устоять на начертанном мне пути, чтобы всегда считаться среди Его служителей, хотя бы последним и самым низким, и чтобы затем, если наступит минута, когда я буду удостоен пострадать во имя Его, мне не возгордиться этой славой, которую я всегда так горячо желал заслужить. Я говорю тебе, дитя мое, что через час тебя и меня встретят те святые и великие люди, о которых я тебе так часто говорил. Они выйдут к нам богато одетые, примут нас в открытые объятия и поведут к вечному свету, о котором я не решаюсь говорить тебе даже теперь, поведут в жилище, которого никакое око не видело и ухо не слышало, которое не представлял ум человека. О, Эска! Я любил тебя, как сына и, однако, от души не могу пожелать тебе другой участи, как видеть тебя связанным рядом со мной в эту черную ночь.
Энтузиазм старика не мог не сообщиться его товарищу.
– О, – сказал он, – когда они придут, они найдут меня готовым. Верь мне, Калхас, теперь и я не хотел бы удалиться от тебя, если бы и мог. Да! Если такова воля нашего Господа, пусть я буду побит камнями во внешнем дворе храма. Ты научил меня, старый друг, принять мой жребий с благодарностью и смирением. Однако я человек, Калхас. Ты сказал правду, мне недостает долгого и святого воспитания твоих сорока лет. Есть узы, привязывающие меня к земле. Но ведь не грех любить Мариамну, и я горячо хотел бы снова увидеть ее.
Слеза смочила ресницы старика. Как ни чиста и ни целомудренна была его душа, готовая отлететь в свое жилище, однако он сохранял сочувствие к человеческой любви. Даже узы родства были еще так же сильны в нем, когда он страдал здесь, как и тогда, когда они оба были у очага брата.
Он радовался тому, что исповедание им веры перед синедрионом, послужившее к прославлению его Учителя, не погубило в то же время репутации Элеазара в глазах народа. Но радость, вызванная в нем ожиданием принять вместе со своим учеником славу мученика, омрачена была мыслью, что Мариамна будет страдать ужасно, прежде чем ее благородная и святая душа примирится с потерей. Минуту он хранил молчание, хотя его губы шевелились в молитве за двух любящих, а Эска обратился к прежнему предмету.
– Сильно хотелось бы мне увидеть ее, – повторил он мечтательно, – я так люблю ее, мою прекрасную Мариамну! И однако мое желание эгоистично и недостойно. Она слишком много страдала бы, увидя меня связанным и беззащитным. Когда все будет кончено, она узнает, что моя последняя мысль была о ней, и, быть может, заплачет о том, что ей не пришлось принять мой прощальный взгляд. Скажи мне, Калхас, я, конечно, найду ее в том ином мире? Ведь не грех любить так, как я любил ее!
– Нет, это не грех, – важно повторил Калхас. – Сколько мужчин вышло на путь, ведущий к небу, только после того, как им указала его рука женщины! Может быть, женщина шла впереди их и с улыбкой надежды делала им знак рукой, чтобы они шли за ней, когда тропа исчезала из виду. Нет, Эска, не грех любить так, как любил ты, и за то, что ты ради славы своего Господа отказался даже от этой любви, великого и драгоценного сокровища своего сердца, ты не потеряешь своей награды… Верь, надейся и молись! Здесь, на дворе смерти, как и там, на укреплениях, или подле возлюбленного очага, ты одержишь победу, ибо вот наступает уже час битвы. Ночные часы прошли, и пора уже облечься нам в наши доспехи для боя.
Говоря это, старик указал на восток, где первые лучи зари слабо показывались на небе. Взглянув на лицо своего товарища, видимое теперь в предрассветной полутьме, он был поражен переменой, какую несколько часов страданий и лишений произвели в этих юных и прекрасных чертах. Казалось, Эска постарел на десять лет в одни сутки, и Калхас не мог сдержать порыва воодушевления, подумал о том, как сильно внутреннее убеждение поддерживало его собственное истощенное тело и слабую комплекцию. Впрочем, это чувство было только минутным, так как христианин тотчас же отождествился со страдающим и несчастным. Исполненный искреннего самоотречения, какому его научила его вера, он, не колеблясь, взял бы на свои плечи бремя, казавшееся столь тяжелым для его менее утвердившегося брата. Не уверенность в себе давала добровольному мученику столь несокрушимое мужество, но полное отречение от себя, всецелое доверие к Богу, Который один только не изменяет в час нужды. Это была пламенная вера, столь ясно видевшая сквозь туман времени и человеческих слабостей, что она могла принимать вечное и бесконечное как видимое, осязаемое и реальное.
Казалось, теперь они поменялись ролями, эти два осужденных человека, ожидавшие смерти в узах. По-видимому, приближение дня пробудило в старике воинский пыл и дало юноше покорность святого.
– Молись за меня, чтобы я сочтен был достойным, – прошептал последний, показывая на мутный свет, все более и более охватывавший небо над их головой.
– Мужайся! – отвечал другой, и лицо его озарилось улыбкой триумфа. – Вот день наступил, и мы оба навсегда покончили с ночью!
Глава XIII
Фанатизм
Если вера имеет своих мучеников, то и фанатизм имеет своих воинов и героев. Калхас в своих узах был не более убежденным человеком, чем Элеазар в своих доспехах. Но ревность, доставлявшая мир одному, внушала другому беспокойную, полную вызова энергию, равносильную пытке.
Вождь зилотов готовился к великой битве, несомненно предстоящей на рассвете, как подсказывала ему его военная опытность и слова его брата, сказанные перед синедрионом и еще теперь с надоедливой монотонностью раздававшиеся в его ушах. Немного спустя после полуночи он очнулся от того забытья, в каком его оставила Мариамна, и, не осведомляясь о дочери и даже не подумав о ней, он тотчас же вооружился и приготовился при первом рассвете зари обойти восстановленные укрепления. Для этого ему нужно было пройти через двор язычников, где лежали связанные его брат и друг, так как осажденные возлагали последние надежды на силу храма, а его безопасность была теперь тем более важна, что нижний город был весь во власти врага. Элеазар решил, что в случае необходимости он оставит остальной город римлянам, сам же с отборным отрядом бросится в крепость и твердыню веры, будет сопротивляться там до конца и скорее обагрит священную ограду своей кровью, чем выдаст ее язычникам. Иногда, в минуты величайшего воодушевления, он убеждал себя, что если даже они будут доведены до последней крайности, то небо вмешается и спасет избранный народ. Как член синедриона и один из высшей национальной знати, он не мог не знать основных положений той магической науки, которая называлась наукой волшебства. Прежде, когда, уступая обычаю, он знал ее основы, его сильный ум с пренебрежением смотрел на власть, будто бы предлагаемую этим искусством, и на те тайны, какие оно претендовало открывать. Но в этот день, измученный постоянным беспокойством, сломленный несчастием и лишениями, расстроенный неотвязной мыслью об одном и том же, этот здравый ум искал в неосязаемой области сверхъестественного убежища от нужд и ужасов окружающей действительности.
Он вспомнил о чудесах, которые, хотя и не совершались перед его собственными очами, однако же дошли до него через свидетельства людей, достойных доверия и внимания. Эти чудеса, говорил он себе, были совершены не только для того, чтобы поразить и изумить невежественную массу. Знамения и чудеса должны были совершиться перед ним и ему подобными, перед вождями и властителями народа. Он не сомневался теперь в том, что огненный меч был виден на небе над городом ночью; что телка, приведенная в храм для жертвоприношения, родила агнца посреди священного здания; что великие медные врата того же здания в полночь открылись сами. Он верил, что огненные колесницы и всадники видны были разъезжающими по небу и от горизонта до зенита происходили ужасные сражения, подобные происходящим на земле, с кровопролитиями, победой и поражением, какие ведет за собой смертный бой.
Эти соображения породили в нем экзальтированную уверенность, близкую к безумию. Как мечтатель чувствует себя одаренным сверхъестественной силой и отвагой и выполняет дела, которые признавал невозможными, так и Элеазар, идя сквозь рассеивающийся мрак к храму, верил, что его десница спасет страну, почти надеялся, что найдет подле себя ангела или демона, приставленного для помощи ему, и решил принять содействие от того или другого с одинаковой благодарностью и радостью.
Но, когда он вошел под колоннады, окружавшие двор язычников, его надменная голова опустилась на грудь и шаг сделался более медленным и менее верным. На минуту естественное чувство овладело им, и ему сильно захотелось подойти к этому мрачному углу и сказать несколько добрых прощальных слов брату. Он подумал даже, что возможно извлечь свою саблю, рассечь в мгновение ока узы пленников и велеть им спасаться во мраке, как им угодно. Но фанатизм, уже так давно вносивший фальшь в его суждения, в самом начале подавил этот добрый порыв.
«Быть может, – говорил себе зилот, – это последняя великая… жертва, какая требуется от меня, Элеазара Бен-Манагема, избранного для того, чтобы сегодня спасти мой народ от разгрома. Сожалеть ли мне теперь о жертве, когда она у алтаря связана веревками? Нет, хотя бы кровь моего брата обагрила ступени его, когда эта жертва испустит дух! Ужели мне щадить молодого, храброго язычника, бывшего для меня как бы родным, хотя и чуждым моему дому, если его жизнь необходимая жертва? Нет, хотя бы сердце моей дочери должно было разбиться, когда она узнает, что он отошел в небытие, чтобы никогда из него не выходить! Иевфай не сожалел о своей дочери, выполняя обет, неужели же мне роптать, принося в жертву жизнь всех моих столь же охотно, как и свою собственную, ради спасения Иерусалима?»
Подобные размышления закалили его против всякой нежности, и он решил даже не прощаться с узниками. Они не могли рассчитывать на него. Их присутствие могло бы смягчить его, ослабить его отвагу и даже оскорбить Бога-Мстителя, которого он надеялся умилостивить. Кроме того, если бы стало известным, что он входил в общение с двумя признанными христианами, куда делись бы его известность и влияние, на которые он надеялся, чтобы достигнуть торжества в предстоящей великой и решительной битве? Лучше следовало погасить эти порывы слабого сердца, окаменеть и продолжать свой путь мимо них. Тем не менее он на минуту остановился и с тоской протянул руку к тому углу где лежал его связанный брат. В это мгновение легкий шум шагов раздался подле него в темноте. Это была Мариамна, возвратившаяся из римского лагеря и проскользнувшая в тени колоннад к тому кого она любила.
Глава XIV
На заре
Вскоре холодный и бледный день засиял над башнями и вышками храма. Высокий купол, казавшийся серым и неопределенным, рисовался на необъятном небе, как масса облаков, исчезающая перед ясным и чистым утром; мало-помалу он засиял своим фиолетовым цветом и, наконец, засверкал своим белым отполированным мрамором, когда лучи поднимающегося солнца полностью позолотили его вершину. Немного спустя золотая крыша разбросала туда и сюда огненные лучи и сделалась ослепляющей, пламенной скатертью. Но двор язычников все еще был погружен во мрак, и два узника, связанные в самом темном углу, обратили свои бледные лица к небу, чтобы приветствовать приход нового дня, последнего для них на земле.

