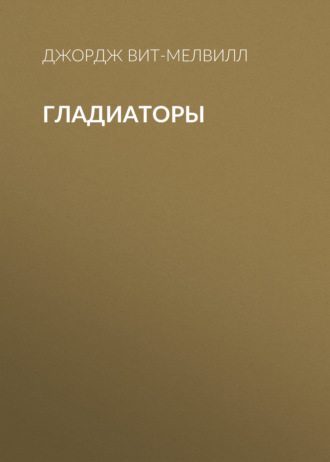
Гладиаторы
Этот человек, который не мог похвастать выдающимся физическим мужеством, столь часто встречающимся среди ему подобных, обладал, однако же, упрямой стойкостью, которую нисколько не уменьшали ни движения совести, ни чувство стыда и благодаря которой он был страшным противником, имевшим успех во всех замышляемых им гнусностях.
Во время сражений, в которых он выступал с тяжелым ужасным цестом или без него, он стремился к тому, чтобы утомить своего противника долгой и искусной защитой и получить как можно меньше ударов, и никогда не решался нанести ни одного удара, кроме тех случаев, когда отпор врага был невозможен. Во всем, что он ни предпринимал, он стремился достигнуть цели благодаря постоянной бдительности, всегда прибегая к тем средствам, на какие ему указывал опыт и здравый смысл, как на самые пригодные.
Проскользнув за широкими плечами Гирпина, он спрятался в самом темном углу портика и начал прислушиваться, желая узнать, к чему приведет обращение Мариамны к учителю бойцов. Гиппий с веселым видом и не без грубости толкал гладиаторов вперед себя. Когда они толпой пришли к тесной выходной двери, он на минуту остался позади и совсем тихо сказал Эске:
– Ты, приятель, отведешь девушку к себе. Могу я ее тебе поручить?
– Мне ее поручить! – воскликнул бретонец.
Но тон, каким он сказал эти слова, и взгляд, каким он обменялся с Мариамной, удовлетворили бы гораздо более требовательного допросчика, чем начальник гладиаторов.
– Ну, будь здоров, молодец, – промолвил Гирпин, – и ты также, прелестный цветок. Мне хотелось бы самому пойти с вами, но отсюда далеко до берегов Тибра, и я не должен пренебрегать делом этого вечера, что бы ни случилось.
– Ну, уходите же оба, – поспешно прибавил Гиппий. – Не будь грабежа впереди, мои телята не были бы нынче так покладисты. Коли вы попадете им в руки, вас не в состоянии будут спасти сами весталки. Идите скорей, и добрый вам путь!
Они повиновались и быстро удалились, между тем как начальник бойцов с довольной улыбкой хлопнул по плечу Гирпина и вместе с ним прошел внутрь дома.
– Ну, старый товарищ, – сказал он, – что бы ни случилось в сегодняшний вечер, мы выпьем с тобой чарку кекубского вина у трибуна. Завтра мы либо будем лежать на спине, с полуоткрытым ртом, готовым принять динарий смерти, либо будем подносить к губам золотой отполированный кубок. Кто знает? И кого это может беспокоить?
– Только, брат, не меня, – заметил Гирпин. – Ну а меж тем мне таки изрядно захотелось пить, а ведь говорят, будто вино у трибуна – самое лучшее в Риме.
Глава XIII
Эсквилин[32]
Насторожив ухо, с напряженным умом слушал Евхенор, спрятавшийся в углу портика, происходивший разговор. Когда он услышал, что беглецы имели намерение направиться к берегам Тибра, его живой греческий ум тотчас же создал свой план действий.
Караул его товарищей, нескольких гладиаторов, нанятых Плацидом, по приказу Гиппия был поставлен несколько часов назад на дороге, ведущей к этому местечку.
Не подозреваемый ими, он бесшумно следовал за молодыми людьми, так как у него вовсе не было желания встречаться лицом к липу с бретонцем до той поры, пока у него не появятся помощники; затем он поднял бы тревогу, схватил бы беглецов и восстановил бы свои права согласно священным правилам «семьи». Наверное, Эска защищал бы девушку до последнего издыхания, но количество взяло бы верх над ним, и было бы странно, если бы этот бой не привел его к вечному молчанию. После победы, говорил себе Евхенор, оставалось бы довольно времени, чтобы соединиться с остальными товарищами за столом у трибуна, отдав девушку во власть шайки. Он подыскал бы какое-нибудь оправдание своего отсутствия перед своими собратьями, которые к тому времени были бы уже в достаточной мере разогреты вином. Лично он был мало расположен к ночной затее, сулившей больше тумаков, чем бы ему хотелось, когда пришлось бы драться с германскими стражами, мощными голубоглазыми гигантами, которые не оказали бы пощады и сами не стали бы просить ее. Однако ему не хотелось потерять своей доли добычи, так как никто лучше его не сумел бы оценить преимуществ набитого кошелька, но он полагался на свою ловкость и рассчитывал получить эту добычу, не подвергаясь никакому бесполезному риску. Так как он держался обыкновения всегда заниматься не более как только одним делом, то он с нетерпением ждал, когда уйдет Гиппий и он сможет выйти из засады.
Не успел еще учитель бойцов показать спину, как грек уже выскочил на улицу и окинул взором длинное пространство, освещенное луной, дававшей ему возможность заметить две черные фигуры. С быстрыми и бесшумными движениями пантеры он со всех ног перебежал длинный ряд домов, находившихся в тени, пока не достиг того уголка, через который должен был выходить всякий направлявшийся к берегам Тибра. Здесь он был уверен, что увидит свою жертву. Однако напрасно он старался рассмотреть широкие плечи Эски и нежные формы еврейки среди нескольких прохожих, проходивших в этой уединенной части города. Напрасно, как охотничья собака, перебегал он с одной стороны на другую, то вперед, по какому-то смутному соображению, то назад, с упрямством и решимостью возвращаясь к своей прежней мысли. Как собака, которую пронюхала дичь, он должен был с опущенной головой, одураченный и посрамленный вернуться в дом трибуна, придумывая по дороге подходящее оправдание своего позднего появления на пиру перед своим господином и товарищами. А между тем, сам того не зная, он прошел в двадцати шагах от тех, кого искал.
После первого порыва радости, вызванной их спасением, Мариамна, в силу своего характера, испытывала чувство, преобладавшее в ее душе над всеми другими, – чувство благодарности к небу, сохранившему их обоих, и ее, и того, чья жизнь для нее была еще дороже собственной. Верная дочь своей нации, она верила в постоянное непосредственное вмешательство Всемогущего ради блага своих верных, а новая вера, быстро завоевывавшая себе место в ее сердце, ослабила чувство пугливого уважения, с каким поклоняющийся смотрит на божество, чувствами веры, любви и детской надежды на отца. Такие чувства могут увлекать человека только к благодарности и молитвам. Не пройдя и десяти шагов от дома трибуна, она порывисто остановилась, подняла глаза на Эску и сказала:
– Станем оба на колени и возблагодарим Бога за наше освобождение.
– Но не здесь, по крайней мере! – воскликнул бретонец. Как ни крепки были его нервы, однако теперь они были измучены ночными превратностями и опасениями за судьбу возлюбленной подруги. – Они могут вернуться каждую минуту, ты еще не спасена окончательно. Если ты так истомилась, что не можешь идти (в самом деле, она очень сильно опиралась на него и голова ее свешивалась на грудь), то я донесу тебя на руках до дома отца. Милая моя, я донес бы тебя на край света.
Она кротко улыбнулась ему, хотя лицо ее было страшно бледно.
– Войдем в этот разрушенный портал, – сказала она. – Нескольких минут отдыха для меня будет достаточно, но я должна, Эска, поблагодарить Бога Израиля, спасшего нас обоих.
Они стояли подле разоренного портала, железная битая дверь которого ввалилась внутрь. Это был конец улицы, противоположный тому, на котором находился дом трибуна, и, пройдя под изъеденным червями сводом, они увидели, что портал выводил в одно из тех пустынных местечек, которые, после великого нероновского пожара, попадались там и сям не только в пригородах, но и в самом сердце Рима.
В самом деле, они вышли в то обширное пустое пространство, которое некогда было занято знаменитыми Эсквилинскими садами. Сначала это место служило кладбищем, и Август дал его своему фавориту знатному Меценату чтоб он засадил его и украсил по своему желанию, согласно со своим сомнительным вкусом. Образованный патриций воспользовался щедростью своего императора; он построил в этом месте великолепный дворец, которого, однако, не пощадил огонь, и придумал насадить здесь чудесные сады, точно так же уничтоженные во время того же бедствия. Немногое теперь оставалось здесь от них, если не считать деревьев, некогда осенявших могилу римлянина в дни старой республики. Это были «зловещие кипарисы», так трогательно описанные в прелестной оде тем, кому Меценат покровительствовал и кто сделал своего покровителя бессмертным, выразив ему свою благодарность.
Даже каскад, однообразный шум которого призывал господина сада к полуденному отдыху под свежей сенью деревьев, теперь высох, и во внутренней пустоте возвышалась куча обломков, где некогда журчали ясные и чистые, как кристалл, воды.
Под ветвями закоптевшего, обезображенного и разрушенного огнем дуба, похожего на призрак, Мариамна остановилась и обеими руками оперлась на руку своего спутника. В течение целых часов девушка стойко выносила свою ужасную душевную тоску и физические страдания, но когда она получила облегчение и была в сравнительной безопасности, в ней произошла реакция: ее глаза помутились, чувства отказывались служить ей и тело дрожало так сильно, что она не могла продолжать пути.
Эска в испуге склонился к ней. Бледное лицо до такой степени было похоже на лицо мертвеца, что его мужественное сердце упало при мысли о возможности жить без нее. Поддерживаемая его сильными руками, она тотчас же пришла в себя, и он в немногих чистосердечных и простых словах высказал ей свои мысли.
– И однако это когда-нибудь случится, – кротко отвечала она. – Что такое, Эска, краткая человеческая жизнь для такой любви, как наша? Пусть у нас будет все, чего мы хотим, все, что может дать мир, и все же каждая минута нашего счастья будет смущена мыслью, что оно так скоро кончится.
– Счастье! – повторил Эска. – Что такое счастье? Почему оно так редко на земле? Мое счастье – это быть с тобой, и ты видишь, что час наслаждения приходится оплачивать ценой, о которой я не хочу думать.
Она с любовью посмотрела на него.
– Верь мне, что я знаю, чего оно стоит, – сказала она. – С той ночи, как ты спас меня из рук этих ужасных гуляк и так благородно и любезно отвел меня в дом моего отца, я никогда не забывала, чем я тебе обязана.
Эска поднес руку девушки к своим губам, как человек низшего положения, выражающий свое почтение. Он был один с любимой женщиной, но сила и благородство его молодой любви заставляли его смотреть на нее, как на что-то священное.
Она остановилась в нерешительности, так как ей хотелось сказать еще нечто, но стыдливость сомкнула ее уста и она испугалась, как бы ей не высказать своих чувств слишком ясно. Однако она так сильно любила его, что не могла обойти молчанием столь жизненный вопрос, и, помолчав немного, собралась с духом и прибавила:
– Эска, можешь ли ты примириться с тем, что мы больше никогда не увидимся?
– О, я предпочел бы лучше сейчас же умереть! – горячо воскликнул он.
Она печально покачала головой и проговорила:
– А после смерти, как ты думаешь, увидишься ли ты со мной?
Казалось, он не понял ее. Этот же самый вопрос представлялся и его уму, хотя он почти не сознавал этого, но никогда прежде он не облекался в такую определенную форму.
– Ты сделала меня трусом, Мариамна, – сказал он. – Когда я думаю о тебе, я готов бояться смерти.
Они оба стояли под дубом, и лучи луны, ясные и холодные, проникали сквозь обнаженные ветви. Они блестели на мраморной плите, наполовину разрушенной, наполовину поросшей мохом. Тем не менее на ее поверхности можно было ясно различить вырезанную лошадиную голову, которой римляне любили украшать камни, лежавшие на их могилах.
– Ты знаешь, что это обозначает? – спросила она, указывая на странный, но знаменательный символ. – Даже надменный римлянин чувствует, что смерть и отъезд одно и то же, что умерший отправляется в путешествие, предел которого ему неизвестен, но из которого он никогда не вернется. Нам всем предстоит предпринять это путешествие, хотя мы и не знаем когда. И для тебя, и для меня, быть может, лошадь взнуздана сегодня вечером. Но я знаю, Эска, куда я иду. Если бы сейчас ты убил меня своим мечом, я уже в эту минуту была бы там.
– А я? – воскликнул он. – Пришлось ли бы мне быть с тобой, потому что ведь и я умер бы среди гладиаторов, как волк, затравленный множеством собак. Мне случалось видеть это в моей стране. Мариамна, ты не покинешь меня навсегда. Что со мной будет?
Она снова покачала головой с той же сострадательной, с той же печальной улыбкой.
– Ты не знаешь дороги, – сказала она. – У тебя нет того, кто бы мог вести тебя за руку. Ты погиб бы во мраке, и я больше не увидела бы тебя. О Эска, я могу научить тебя этой дороге, я могу тебе показать ее. Пойдем в путешествие вместе и, что бы ни случилось, не будем разъединяться.
Девушка стала на колени под этим увядшим деревом. Лучи луны отвесно падали на ее лицо. Губы ее шептали благодарность за спасение и молитвы за того, кто стоял рядом с ней и смотрел на нее любопытным взором подобно ребенку, старающемуся исследовать механизм, действие которого он видит, не понимая причины.
Несколько минут она оставалась на коленях, горячо молясь и за себя, и за него. Он понял это и, глядя на обращенное к небу милое лицо, столь чистое и умиротворенное, чувствовал, что все его существо возвышено ее святым влиянием, что земное чувство любовника к любовнице облагорожено в его сердце благоговением святого к святой.
Потом она поднялась и, взяв его за руку, медленно продолжала свой путь, рассуждая о некоторых истинах, узнанных ею от Калхаса, в которые она уверовала верой тех, кто был научен лицом, лично видевшим сообщаемые факты.
В эти первые дни христианская религия, едва лишь вышедшая из своего источника, была религией любви. Питать алчущих, одевать нагих, протягивать руку падшим, не помышлять ни о каком зле, не судить и не осуждать – словом, любить своего брата, «которого можно видеть», – все это были прямые повеления Великого Учителя, еще так недавно явившегося на земле. Его первые ученики всеми слабыми человеческими силами стремились подражать Ему и благодаря своим усилиям сумели возвыситься до такого спокойствия и удовлетворенности духа, какого никогда не мог дать никакой иной кодекс морали, никакая иная философская система. Вероятно, именно это качество римский палач находил всего более таинственным и необъяснимым в своих отношениях к жертве – христианину. Мужество, решимость и вызов – все это было для него понятно, но чтобы проявить ту детскую покорность, с какой последний с одинаковым доверием принимал добро и зло, с улыбкой благодарил за то и другое, не заботился о сегодняшнем дне и не беспокоился за завтрашний – для этого нужен был такой нравственный подъем, на который при всех своих претензиях никогда не способны были его соотечественники. Ни стоик, ни эпикуреец, ни софист, ни философ не могли относиться к жизни и смерти со спокойной верой этих невежественных людей, опирающихся на руку, которой римлянин не мог видеть, убежденных в бессмертии, которое римлянин не мог осмыслить.
Это отрадное убеждение озаряло лицо молодой девушки, и Мариамна излагала перед Эской положение своей возвышенной веры, выясняя – правда, не рассудочным, логическим путем, но посредством убедительных доводов сердца, – насколько прекрасна была перспектива, открывавшаяся перед ним, и насколько славна награда, которую хотя и не видело человеческое око, но зато не могла отнять никакая смертная рука. Обещания будущего блаженства становятся еще отраднее, когда исходят из уст любимой женщины и достигают ушей того, кто ее обожает. В этом случае убежденность быстрее овладевает сердцем проповедующей и заставляет его биться в унисон с сердцем неофита. Под этим небом, посеребренным луной, озаренным на горизонте заревом пожара, совершенного мятежниками в отдаленном квартале города, в обширном уединении садов Эсквилина, под обезображенными деревьями, подле разбросанных надгробных камней, под крик ночных птиц бретонец узнал основные положения христианства от любимой им дочери Иудеи. Лицо еврейки было озарено святой, неземной нежностью, когда она указывала путь к вечному блаженству, жизни и свету тому, чья душа для нее была дороже своей собственной.
А между тем буйство, грабеж и насилие, ничуть не ослабевшие, совершались вокруг них. Рассвирепевшие шайки сторонников Веспасиана встречали себе там и сям товарищей, отставших от распущенных легионов цезаря. Всякий раз после подобной встречи сражающиеся с яростью вступали в бой и отчаянно дрались насмерть, как бы только для того, чтобы насладиться кровопролитием. Кто бы ни был победителем, разнузданные граждане никогда не получали пощады. Зато те же самые граждане, не рискуя получить удар, с высоты своих крыш и из окон разжигали борьбу, не щадя для этого ни жестов, ни слов. Поток искр летел на улицы Рима, и по мостовой ручьями текла кровь, смешанная с вином. Смута и разорение, терзавшие злополучный город, не пощадили и пустынных садов Эсквилина.
Глава XIV
Церковь
Когда Эска и Мариамна уже собирались покинуть свое убежище, они увидели, что кругом их по-прежнему царит мятеж, все еще не унявшийся в соседних кварталах. Со всех сторон слышались то крики триумфа, то стоны отчаяния, то вопли безумно пьяных. От времени до времени толпы преследуемых или преследующих людей забегали в ограду садов, заставляя бретонца и защищаемую им девушку забираться вглубь, чтобы не быть замеченными.
Мало-помалу им наконец удалось достигнуть местечка, где они были сравнительно в безопасности. Это была роща черных кипарисов, уцелевших от пожара. Здесь они остановились, чтобы перевести дыхание и прислушаться. С каждой минутой Мариамна становилась более и более спокойной и уверенной, тогда как Эска с сильно бьющимся сердцем представлял в уме многочисленные опасности, каким нужно было подвергнуться, прежде чем прийти в дом на берегу Тибра и спокойно отдохнуть, отведя дочь под кров отца. В этом укромном местечке становилось очень темно, так как густые и угрюмые кипарисы закрывали от них небо. Вероятно, это место было некогда любимым местом уединения в знойные часы дня.
Мариамна еще ближе прижалась к своему спутнику.
– Я чувствую себя в такой безопасности и так счастлива с тобой! – сказала она ласково. – Мне кажется, что мы с тобой поменялись местами. Теперь ты беспокоишься, и хотя не испуган, но тебе не по себе, Эска, что это значит? – задрожав, спросила она, заметив, что на лице ее любовника вдруг появилось выражение ужаса и изумления.
Его голубые глаза были куда-то устремлены и неподвижны, как камень, уста полуоткрыты, черты лица словно застыли; весь он, по-видимому, сосредоточился в одном чувстве зрения, и его лицо, обыкновенно столь смелое и отважное, теперь казалось бледнее ее лица.
Она посмотрела по направлению его взгляда, и ей точно так же пришлось испугаться того, что она увидела.
Две черные фигуры, в длинных, влекущихся по земле одеждах, медленно, торжественным шагом шли, пересекая большую аллею, залитую лунным светом. Следом за ними шли две другие фигуры в белом, не менее фантастические, так как их силуэты ясно вырисовывались, позволяя видеть только голову и ноги, тогда как все остальное было как бы окутано туманом. Далее виднелись две другие черные фигуры и далее, пара за парой, безмолвно двигалась процессия призраков. Только тогда, когда половина ее прошла, показалось что-то похожее на человеческую фигуру, одетую в белую одежду. Это что-то, лежа в горизонтальном положении, качалось на локоть над землей. И вот послышалось медленное, заунывное пение, долетевшее до ушей беглецов. Это было kyrie eleison, грустный, смиренно-жалобный припев, которым христиане, хотя и с чувством надежды, оплакивали похищаемых смертью.
Страх не был чувством, присущим Эске, и он не мог долго длиться. Бретонец выпрямился во весь свой рост, и краска снова вернулась на его лицо.
– Это духи, – сказал он, – духи лесов, владения которых мы заняли. Злые они или добрые, мы будем сопротивляться им до конца. Они принесут нас в жертву своему мщению, если мы хоть сколько-нибудь выкажем страх.
Она гордилась тем, что даже в этот момент он был мужественным до такой степени: он мог даже делать вызов, хотя и не мог отрешиться от суеверий своей родной страны. Ей было вместе с тем приятно думать, что из ее уст он узнает истину и об этом мире, и о будущей жизни.
– Это не духи! – отвечала она. – Это христиане, погребающие своих покойников. Эска, среди них мы будем в безопасности, и они дадут нам возможность выйти отсюда незамеченными.
– Христиане? – спросил он тоном сомнения. – И мы ведь также христиане? Хотелось бы мне, однако, чтобы они были вооружены, – прибавил он как бы в размышлении. – С двадцатью человеками, славно владеющими мечом, я охотно согласился бы провести тебя с одного конца Рима на другой. Но я сильно побаиваюсь, как бы они не оказались простыми жрецами. Жрецами! А меж тем в этот час в городе спущены с цепи целые легионы!
«Он еще юный ученик, – думала его любящая наставница, – и много недостатков его надо сносить, много препятствий надо преодолеть, прежде чем можно будет вырвать из этого отважного сердца его уверенность в своем мужестве и заменить ее тем мужеством, которое гораздо возвышеннее и опирается только на волю небес. Тем не менее отважный человек – прекрасный материал для обращения в праведного и доброго человека».
Они покинули свое убежище и быстро спустились в аллею вслед за скрывшимися из виду христианами. В отдаленном местечке, где пышно разрослись оставшиеся деревья, куда меньше всего проникал свет зари, процессия остановилась. Могила была уже наполовину выкопана. По мере того как комья земли с глухим шумом падали один за другим на край могилы или снова скатывались в ров, продолжалось заунывное пение, то тихое и подавленное, как чьи-то рыдания, то переходящее в тон скромного триумфа, почти граничащего с радостью.
Еврейка и ее защитник стояли в ожидании в нескольких шагах, пока бросали последние комья земли на край ямы. Затем христиане в торжественном молчании стали вокруг открытой могилы. Тело было тихо опущено в свое последнее жилище, и лица людей, видевших, как оно, колеблясь, опускалось, остановилось и исчезло из виду, подобно жизни погребаемой покойницы, были озарены священным торжеством, так как всем было известно, что для одного путника путешествие закончилось и он достиг предела своего поприща.
Когда могила была засыпана, христиане собрались вокруг нее для молитвы. Взяв Эску за руку, Мариамна молчаливо стала меж ними и присоединилась к их молениям. Это было странное и торжественное зрелище для варвара. Кружок теней, облаченных в плащи, стоял на коленях около пустого пространства, собираясь почтить невидимую силу. Направо и налево – пустыня, развалины и опустошение, царящие в сердце великого города; вверху зловещее зарево на черном небе; издалека ветер доносит то слабые, то громкие крики яростно сражающихся. Рядом с ним женщина, которую он так нежно любил и считал уже навеки потерянной. Вместе с другими он стал на колени, чтобы воздать Богу дань благодарного сердца. Молитвы их были кратки, но пламенны, и они выражали их так, как повелел им их Учитель. После того как они встали, из толпы вышел один мужчина и, подняв руку, попросил всех замолчать.
Это был, очевидно, урожденный римлянин, и он с легкостью говорил на своем языке, хотя в то же время в его речи слышался акцент и проскальзывали выражения последнего из плебейских классов. Он был, по-видимому, ремесленником, и, когда поднял свою руку, прося внимания, можно было видеть, что она сделалась грубой и мозолистой от работы. Невысокий ростом, с вульгарной внешностью, грубо одетый, с непокрытой головой и босыми ногами, он мог внушить мало интереса и уважения, но зато видно было, что благодаря своему дюжему и крепкому телосложению он способен на тяжелый и утомительный труд, а лицо его, несмотря на грубость черт, выказывало сдержанный энтузиазм, серьезные жизненные устои и честную прямоту сердца. Это был один из пионеров той религии, которой суждено было позднее распространиться по всей земле. Таковы были эти люди, готовые во имя своего Учителя без сумы, сандалий и всяких одежд, кроме той, какая была на них, идти и покорять мир. Не готовившие речей для произнесения, когда их приводили к царям и земным вельможам, они полагались только на святость своей миссии и вдохновение, внушавшее им, что нужно говорить. Не вкусившие науки, они опровергали мудрейших философов. Люди без роду и племени, они дерзали перед проконсулом, сидящим на судейском престоле, и перед цезарем на его троне. Невежественные и домоседы, они не боялись идти в странствование по чуждым странам, к враждебным народам, чтобы сеять благовестие с простой вдохновенной верой, заставлявшей людей верить им. Слабые по природе как только возможно и робкие вследствие воспитания, они спускались на арену, чтобы найти там мученическую смерть под челюстями голодного льва, со спокойной отвагой, неведомой солдатам и гладиаторам. Беспрестанно внушал им их Учитель, что Его миссия идти не к благородным, счастливым и знатными, так как эти последние, если бы захотели, могли бы сами прийти к Нему, но прежде всего к бедным и униженным, смиренным и отверженным, в особенности же к несчастным и нуждающимся, которым никто здесь не хочет помочь и которые тем более должны полагаться на заступничество Того, кто прежде всего друг несчастных.

