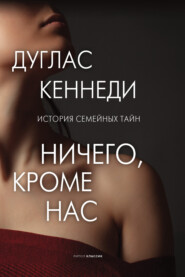По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В погоне за счастьем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«А потом, что делать потом, сэр?»
«Распустите по домам».
Сержанты выполнили приказ. Они провели колонну по всему лагерю, заглядывая в каждый уголок. Взорам четырехсот мирных граждан предстали бараки с кучами экскрементов на полу. Печи. Секционные столы. Горы костей и черепов, сваленных у стен крематория. Пока длилась эта экскурсия, выжившие узники концлагеря – а их было человек двести – молча стояли во дворе. Они были настолько истощены, что казались ходячими скелетами. Скажу тебе честно, ни один житель города не посмел взглянуть в глаза узникам. Они шли, понуро опустив головы. И были такими же притихшими, как и бывшие смертники.
Но вот у одного все-таки сдали нервы. Он был хорошо одет, упитан, вылитый банкир. На вид ему было лет под шестьдесят: добротный костюм, начищенные ботинки, золотые часы в нагрудном кармане. И вдруг он разрыдался. Горько и безутешно. В следующую минуту он вышел из колонны и, шатаясь, двинулся к капитану Дюпрэ. Двое наших ребят тотчас вскинули ружья. Но Дюпрэ сделал им знак не стрелять. Банкир упал на колени перед капитаном, истерично всхлипывая. И начал твердить одну и ту же фразу. Он повторял ее снова и снова, так что я заучил ее наизусть.
«Ich habe nichts davon gewu?t… Ich habe nichts davon gewu?t… Ich habe nichts davon gewu?t…»[18 - Я этого не знал (нем.).]
Дюпрэ смотрел на него сверху вниз, явно озадаченный. Потом он позвал Гаррисона – переводчика при батальоне. Гаррисон был застенчивым малым, из тех начитанных умников, что робеют смотреть в лицо собеседнику. Сейчас он стоял рядом с капитаном, широко раскрытыми глазами уставившись на плачущего банкира.
«Что он там несет, Гаррисон?» – спросил Дюпрэ. Речь банкира стала уже настолько невнятной, что Гаррисону пришлось присесть возле него на корточки.
Через какое-то время он поднялся.
«Сэр, он говорит: „Я не знал… Я не знал…“».
Дюпрэ побелел от злости. Он вдруг нагнулся и, схватив банкира за лацканы пиджака, поднял его, так что они оказались лицом к лицу.
«Как же не знал, черт тебя дери!» – прошипел Дюпрэ, потом плюнул ему в лицо и оттолкнул в сторону.
Банкир поплелся обратно в строй. Пока жители городка маршировали по лагерю, я не спускал с него глаз. Он даже не попытался стереть с лица плевок Дюпрэ. И все бормотал себе под нос: «Ich habe nichts davon gewu?t… Ich habe nichts davon gewu?t…» Стоявший рядом со мной солдат сказал: «Только послушай этого сукина сына. Он совсем свихнулся».
Но я думал, что это все-таки слова раскаяния. «Аве Мария». Или что там еще, что говоришь самому себе, пытаясь покаяться, вымолить прощение. И я искренне сочувствовал тому человеку. Я чувствовал, что на самом деле он хочет сказать: «Да, я знал о том, что происходит в этом лагере. Но я ничего не мог поделать. Поэтому я просто закрыл на это глаза… и убедил себя в том, что жизнь в моей деревне течет, как и прежде».
Джек выдержал паузу.
– Наверное, мне уже никогда не вычеркнуть из памяти этого толстяка в костюме, повторяющего «Ich habe nichts davon gewu?t» снова и снова, снова и снова. Потому что это была отчаянная мольба о прощении. И мольба эта основана на пугающей человеческой слабости: все мы делаем то, что должны делать, чтобы выжить.
Джек потянулся за сигаретой, оставленной в пепельнице. Она уже потухла, он достал из пачки следующий «Честерфилд» и закурил. После первой затяжки я вытащила сигарету у него изо рта и жадно затянулась.
– Я не знал, что ты куришь, – сказал он.
– Я не курю. Балуюсь. Особенно когда впадаю в задумчивость.
– У тебя сейчас такое настроение?
– Ты мне подкинул столько пищи для размышлений.
Какое-то время мы молчали, по очереди передавая сигарету друг другу.
– Ты простил того немецкого банкира? – наконец спросила я.
– Простил ли? Черт возьми, нет. Он заслуживал своей вины.
– Но ты ведь сочувствовал ему, не так ли?
– Конечно, сочувствовал. Но отпущения грехов не мог бы предложить.
– А вот представь себя на его месте. Скажем, ты бы управлял местным банком, у тебя были бы жена, дети, красивая и спокойная жизнь. Но, предположим, ты знал о том, что через дорогу от твоего пряничного домика находится скотобойня, где забивают невинных мужчин, женщин, детей – и все потому, что твое правительство решило, будто они враги государства. Ты бы поднял голос протеста? Или поступил бы так же, как он, – спрятал голову в песок и продолжал жить как ни в чем не бывало, притворяясь, будто ничего не замечаешь?
Джек сделал последнюю затяжку и затушил сигарету в пепельнице.
– Хочешь честный ответ? – спросил он.
– Конечно.
– Тогда слушай: я не знаю, как бы я поступил.
– Это действительно честный ответ, – сказала я.
– Все любят рассуждать о том, что нужно «поступать правильно», отстаивать свою позицию, думать о так называемом всеобщем благе. Но все это пустые слова. Когда ты оказываешься на передовой, под артиллерийским обстрелом, то понимаешь, что ты вовсе не герой. И пригибаешься под пулями.
Я погладила его по щеке:
– Значит, ты бы не назвал себя героем?
– Нет. Я всего лишь романтик.
Он поцеловал меня глубоким и долгим поцелуем. Когда поцелуй закончился, я притянула его к себе и прошептала:
– Давай уйдем отсюда.
Он замялся. Я спросила:
– Что-нибудь не так?
– Я должен кое-что прояснить, – сказал он. – Мне не просто на Бруклинские верфи нужно попасть сего дня.
– А куда?
– В Европу.
– В Европу? Но ведь война окончена. Зачем тебе в Европу?
– Я записался добровольцем…
– Добровольцем? Так уже воевать негде, куда идти добровольцем?..
– Войны, может, и нет, но в Европе все еще большой контингент американской армии, помогает урегулировать там всякие вопросы насчет беженцев, расчистки завалов после бомбежек, репатриации военнопленных. В «Старз энд страйпс» мне предложили контракт на освещение послевоенного обустройства Европы. Для меня это возможность досрочного получения звания лейтенанта, не говоря уже о приличных командировочных. Так что…
– И надолго этот наряд вне очереди?
Он опустил голову, избегая моего взгляда:
– Девять месяцев.
Я промолчала… хотя девять месяцев вдруг показались мне вечностью.