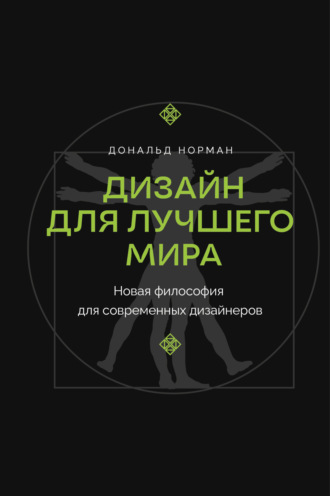
Дизайн для лучшего мира. Новая философия для современных дизайнеров
Путь, выбранный западными странами и распространившийся по всему миру, контролировал жизнь рабочих, и их воспринимали как машин, которыми можно пользоваться до тех пор, пока они не износятся, а затем заменить. Рабочие жили по жесткому распорядку: начинали и заканчивали день по звонкам и гудкам, по часам следили за небольшими перерывами, когда можно было перекусить, после чего продолжали работу. Время контролировало работу, а работа доминировала над благополучием, удовлетворением своих потребностей и семьей. Должно ли было быть так? Нет.
Почему история важна? Потому что она показывает искусственность многих из этих убеждений. Искусственный – не значит неправильный; это значит, что нынешняя структура работы основана на предпосылках, охватывающих весь период письменной истории за последние примерно 5000 лет, а также на возникших в позапрошлом веке или в последние несколько десятилетий обычаях. Важнейшая часть истории – это то, что произошло до рождения каждого из нас. Мы рождаемся в мире, уже оформленном под влиянием исторических событий, но не знаем обо всех них, не знаем, что точно произошло, в результате чего образовался современный мир. Мы воспринимаем свой образ жизни как естественный. Одни рождаются в комфорте, другие – в жизни, полной борьбы и предрассудков. Чем комфортнее наша жизнь, тем сложнее распознать искусственность. Даже замечая некоторые недостатки или проблемы, влияющие на других, мы склонны считать их симптомами, которые можно устранить напрямую.
Нам кажется, что многие из основных проблем современного мира имеют простые ответы. Изменение климата? Давайте уменьшим загрязнение атмосферы. Засуха? Используем воду более эффективно, найдем новые источники. Повышение уровня воды, проливные дожди и наводнения? Построим более высокие дамбы. Предрассудки, основанные на национальности, расе, религиозных верованиях, месте происхождения и классовых различиях? Сложнее, но все же решаемо, если приложить усилия. Увы, но все эти предложения слишком просты. Некоторые купируют симптомы, но не устраняют глубинные причины, а что-то реализовать гораздо сложнее, чем сформулировать в простом предложении.
Чтобы добиться значимых перемен, мы должны переосмыслить глубинные причины, трудно поддающиеся воздействию. Некоторые связаны с усвоенными убеждениями и настолько устойчивыми предрассудками, что те, кто их придерживается, считают их не предубеждениями, а скорее простыми истинами, которые люди должны уважать. Эти предубеждения касаются наших методов управления, образа жизни, артефактов, способов производства и распространения продукции, способов вознаграждения, поощрения и наказания. Изменения не происходят благодаря борьбе с симптомами – мы должны воздействовать на причинные факторы – систему.
Образ жизни можно изменить, но это трудно. Изучение истории помогает понять, насколько искусственны многие убеждения, – но следует соблюдать осторожность. Говорят, что историю пишут победители, те, кто добился успеха, и поэтому потомки победителей отвергают изменения, которые кажутся им искусственными (а они и есть искусственные) и вредными для их убеждений и благополучия (а они могут быть таковыми). Те, кому исторический путь принес пользу, не видят причин для перемен – не обязательно из-за корысти, но потому, что просто не могут представить себе другой способ существования.
Как изменить наш нынешний образ жизни? Мы должны рассмотреть историю мира со всех точек зрения – как со стороны проигравших, так и со стороны победителей, – чтобы понять различные системы ценностей, идеи, способы управления и представления об образе жизни. Старое, освященное веками – еще не значит полезное. Но и альтернативные истории могут быть такими же предвзятыми и вводящими в заблуждение, как и истории, написанные победителями. Справедливость требует рассмотрения всех точек зрения, даже противоречащих друг другу, а скудость дошедших до нас сведений только смазывает общую картину.
В сегодняшнем взгляде на историю доминирует европейская мысль, или, если хотите, образ мышления, пришедший из западных, технологичных стран мира, иногда называемых Глобальным Севером. Обратите внимание, что эти названия – «европейский», «западный» и «Глобальный Север» – не географические, а политические термины. Соединенные Штаты и Канада точно так же являются частью «европейской» традиции, как и Австралия – частью Глобального Севера, западного и европейского. В целом западная мысль доминировала в мире идей, торговли и образовательных практик начиная с промышленной революции в середине XVIII века и распространялась по мере того, как эти страны создавали коммерческие предприятия, захватывали территории и колонизировали их. Колонизация уничтожила культуры коренных народов и заменила их европейским/западным образом мышления и поведения. В большинстве случаев это насаждалось силой.
Возьмем для примера мир хлопка. В своей книге «Империя хлопка» профессор Гарвардского университета Свен Беккерт описывает историю мирового господства британских купцов хлопком с конца XVIII века. Купцы основывали крупные торговые компании, вывозившие хлопок с Востока (Индонезии и Индии) и доставлявшие его в Британию, где из него изготавливали одежду, которую затем продавали по всему миру. Спрос на хлопок привел к колонизации Великобританией и другими европейскими державами Индии и других стран. Один из местных видов хлопчатника, родом с Нового Света, выращивали поселенцы на территории современной Флориды в середине XVI века, а в XVII веке американские хлопковые плантации начали снабжать растущую английскую текстильную промышленность. Выращивание и подготовка хлопка к отправке (с удалением семян) – дело чрезвычайно трудоемкое. Необходимой рабочей силой становились пленники, которых захватывали в ходе межплеменных войн в Западной Африке и переправляли на кораблях на юг США. По законам юга эти невольники считались собственностью, и поэтому их можно было законно покупать и продавать.
История хлопка – это лишь часть истории эксплуатации европейцами неевропейских территорий. Британия добилась доминирования в первую очередь благодаря самому большому и мощному флоту в мире. Весомую роль как в торговле товарами (хлопком, шелком и пряностями), так и в работорговле играла английская Ост-Индская компания, «созданная для эксплуатации торговли с Восточной и Юго-Восточной Азией и Индией». Порабощенные африканцы были важной частью общей американской системы выращивания и обработки хлопка, а также торговли в целом, включающей в себя доставку хлопка в Англию и получение в обмен на него тканей и одежды. Повышающийся спрос на рабочую силу приводил к еще большему притоку рабов из Африки. Хотя рабство известно еще с древности – о нем, например, говорится в Ветхом Завете, – невольники в США были преимущественно африканского происхождения, и рабство стали ассоциировать в первую очередь с цветом кожи, что стало одним из источников расовых предрассудков.
История хлопка длинная и сложная, но по ней можно проследить множество истоков сегодняшних проблем: военная мощь, колонизация, рабство, расовые предрассудки. Так история мира влияет на поведение людей и государств в наше время.
Роль технологий и модернизма
Одна из главных тем этой книги – доминирующая роль, которую играют в нашей жизни технологии и философия модернизма. Люди превратились в граждан второго сорта, вынужденных подгонять свое поведение под диктат технологий, будь то время, когда мы просыпаемся (или, скорее, когда нам говорят просыпаться); товары, которые нас убеждают купить; работа, которую мы должны выполнять, нравится она нам или нет. Но на самом деле настоящий виновник сложившегося положения не технологии. Технологии – это просто часть доминирующего образа жизни в промышленно развитых странах мира.
Главное – это связывающая все воедино философия модернизма, или же культ современности. Основополагающие принципы модернизма отражены в лозунгах проводившейся в 1933 году в Чикаго Всемирной выставки: «Наука открывает, гений изобретает, промышленность осваивает, а человек приспосабливается… Отдельные люди, группы, целые расы людей идут в ногу с медленным или быстрым маршем науки и производства».
Да, такие лозунги были (и во многом остаются) преобладающим мнением Запада. Модернизм – это наука и техника, рациональное мышление и, прежде всего, прогресс, причем определяемый в терминах технологии и торговли. Энциклопедия «Британника» дает более полное описание влияния этого феномена: «Модернизм ассоциируется с быстрым движением глобального капитала, спутниковой передачей изображений и системой мгновенных глобальных коммуникаций. Однако, несмотря на эти достижения, эпоха модернизма предопределила и дикое неравенство в глобальном масштабе – от индустрии, управляемой ради прибыли скрытых от посторонних глаз акционеров, до культурных предрассудков в системе общественного образования».
Философия модернизма охватывает практически все стороны жизни современного Запада, включая политику, управление, бизнес, экономику, представления о справедливости, отношение к работникам, социальные классы и взаимодействие между Глобальным Севером и Глобальным Югом, последний из которых часто служит источником основного сырья и дешевой рабочей силы для первого.
Чтобы понять доминирование технологий над людьми, необходимо разобраться в истории цивилизации, ведь с самых первых исторических записей технологии, особенно различные механизмы и виды оружия, позволяли одним племенам, обществам, регионам, династиям и странам доминировать над другими, развивать сельское хозяйство, торговлю, города и структуры управления. Такой образ жизни расширил возможности богатых, создав понятие классов, кастовую систему, в которой одни люди господствуют над другими с рождения до смерти. Уверенность в преимуществе технологий также породила постоянное стремление к «прогрессу», измеряемому масштабностью группы, количеством накопленных ею богатств и властью ее правителей. В результате богатые жили своей жизнью, а бедные – «модернизмом». Для многих людей прошлого, особенно в середине и конце XX века, модернизм был движущей силой прогресса. Сегодня, однако, многие считают его движущей силой зла, поскольку прогресс одной группы неизменно достигается за счет лишений других, будь то рабы или просто низкооплачиваемые работники на фермах, полях или фабриках.
Проклятие модернизма
Существуют профессии и более вредные, нежели дизайн, но их совсем немного.
Эта цитата – первое предложение книги «Дизайн для реального мира» Виктора Папанека, блестящего (и противоречивого) дизайнера XX века, ратовавшего за дизайн для реальных людей в реальных ситуациях и призывавшего создавать не безвкусные, дорогие и расточительные по отношению к ресурсам безделушки для Запада, а по-настоящему полезные вещи для мест с ограниченными ресурсами.
Почему Папанек так сказал? Да потому что, как продолжает он в том же абзаце, «создавая все новые виды мусора, захламляющего и уродующего пейзажи, а также выбирая материалы и технологии, загрязняющие воздух, которым мы дышим, дизайнеры становятся по-настоящему опасными людьми».
Примечание: Из первой цитаты я удалил слово «промышленный». В оригинале Папанек обвинял «промышленный дизайн», но я расширил критику до дизайна вообще. Почему я позволил себе такую вольность? Потому что я уверен, что Папанек одобрил бы ее. В то время, когда он писал книгу, промышленный дизайн действительно был виновником создавшегося положения, но в наше время столько дизайнеров занимаются системами, услугами, программным обеспечением и цифровыми продуктами (иногда называемыми «нематериальными»), что вину можно возложить на всю отрасль. Было бы несправедливо позволить избежать вины другим важным сферам дизайна.
Хотя в настоящее время высказывание Папанека широко известно, он далеко не первый, кто пытался убедить мир в этой истине. Аналогичные аргументы более чем за 20 лет до него приводил в своей масштабной и влиятельной книге «Механизация берет на себя командование» Зигфрид Гидион, и даже он не был первым.
Сделать это новым
В середине 1930‐х годов поэт Эзра Паунд написал серию эссе «Сделать это новым» (Make It New). Новое, согласно ему, – это хорошо, а старое – это, так сказать, «неполноценное». Паунд обращался к художникам и поэтам, утверждая, что они «должны порвать с формальными и контекстуальными стандартами современников». «Сделай это новым» – вполне подходящий девиз модернизма, но этой фразе и отраженным в ней убеждениям почти 1000 лет, и восходят они к ученому-неоконфуцианцу Чжу Си (1130‒1200), чьи работы читал Паунд.
Поначалу термин «модернизм» описывал эстетическое, архитектурное и, в более широком смысле, культурное движение, направленное на отказ от старых идей, разрыв с традициями и развитие новых форм изобразительного искусства, танца, театра и литературы. Эзра Паунд был проповедником как раз такого модернизма, по крайней мере, в изобразительном искусстве и поэзии.
Впоследствии термин «модернизм» распространился на все интеллектуальное течение с философским акцентом на рациональность, просвещение и, конечно же, масштабные перемены в науке и технике. Философия модернизма также повлияла на экономику и роль торговцев (позже названных бизнесменами), особенно в том отношении, что для достижения «прогресса», под каковым понималось получение прибыли, стали предлагаться различные научные методы бухгалтерского учета. При этом из области зрения полностью исчезли этические соображения. Виктор Папанек боролся с модернизмом в таком понимании, особенно с вредом, наносимом людям и окружающей среде, пока профессиональные дизайнеры помогали бизнесу выпускать непрерывный поток новых вещей для потребителей. Он был решительным противником рекламы, убеждавшей людей в том, что им действительно нужны эти предметы, даже если это не так или у них имелись старые, все еще прекрасно работавшие версии.
Аргументы Папанека достойны внимания, ведь они актуальны и сегодня. Но он был неправ, обвиняя профессию дизайнера, поскольку дизайнеры – тоже жертвы промышленной революции, и не они причина причиненного ею вреда. В мире дизайнеры занимают в основном средние позиции, как в рейтингах университетских факультетов, так и по уровню влияния в компаниях или в способности повлиять на желания клиентов в частных консультациях. Папанек указывает на симптомы, а не на суть проблемы. Основные проблемы возникают из-за философии модернизма, создающей сильную зависимость от науки и техники, от рационального мышления, в сочетании с меньшим вниманием к людям, человечеству и природе. Новое считается хорошим, а старое – плохим и неполноценным. Кроме того, модернизм – это еще и философия потребительства. Это представление о том, что ни наука, ни техника, ни их практические приложения в виде технологий не могут причинить вреда; что постоянное создание вещей, цифровых или физических, постоянное умножение компаний или организаций – это «прогресс» и что прогресс «хорош» по определению.
Может, такой «прогресс» и хорош для людей, обладающих богатством и властью, но точно не для всех. Огромное и все возрастающее число людей, не имеющих постоянного жилья, как в США, так и по всему миру, – это символ провала идеи «прогресса», равно как и растущее неравенство в доходах между очень немногими, обладающими властью и капиталом, и теми, кто их не имеет. Финансовые рынки усиливают разрывы. Компании призывают стремиться к краткосрочной прибыли в ущерб долгосрочному благу.
Это не тот капитализм, который описывал и к которому стремился экономист и философ XVIII века Адам Смит в своей книге «Богатство народов». И в самом деле, он предостерегал от тех эксцессов, которые мы наблюдаем сейчас. «Люди одной профессии редко встречаются вместе, даже для веселья и развлечений, – писал Смит, – но разговор заканчивается заговором против общества или какими-то ухищрениями для повышения цен». Теорию капитализма Адама Смита не следует путать с современной практикой капитализма: человеческая жадность исказила теорию.
Что же касается тем, которые я поднимаю в этой книге, то три наиболее важные исторических концепции, влияющие на современный мир, – это модернизм, промышленная революция и экономическая теория (Адама Смита часто называют ее отцом). Эти три концепции тесно переплетены между собой. Все они зародились примерно в одно время, в середине XVIII века, и породили системы политического управления и экономические системы, которые мы видим сегодня, а также сильно повлияли на практику ведения бизнеса и на занятость рабочих в промышленности. Над многими решениями и активностями в этих сферах до сих пор ощущается тяжелая рука зависимости от пути, даже несмотря на то, что с XVIII века все эти концепции значительно развились. Сейчас модернизм стремительно уходит в прошлое, хотя его менталитет продолжает жить. Промышленная революция в настоящее время находится в своей четвертой итерации, но некоторые уже рассуждают о том, как может выглядеть пятый ее этап.
Первая промышленная революция. Первый этап – внедрение машин, приводимых в движение паром и водяными колесами, начиная с текстильной промышленности, но с быстрым расширением в сферу изготовления многих бытовых товаров и инструментов. Цены на такие товары быстро упали, так как резко увеличился объем их производства.
Вторая промышленная революция. Второй этап проходил со второй половины XIX века до начала XX века. Многие аспекты деловой и семейной жизни изменили новые методы связи, особенно телеграф и телефон, а также средства передвижения, особенно легковые и грузовые автомобили и быстро распространившийся железнодорожный транспорт, сеть которого охватила все континенты. В качестве источников энергии стали широко использоваться электричество, газ, нефть и уголь. Генри Форд разработал сборочный конвейер, позволяющий производить автомобили гораздо дешевле, чем раньше, что привело к быстрому повышению мобильности семей и расселению людей из городов в пригороды.
Третья промышленная революция. Третий этап начался в середине 1940‐х годов, после окончания Второй мировой войны, и ознаменовался появлением электроники и первых компьютеров, переходом от господства механических машин к господству информационных, чья мощность и гибкость быстро росли.
Четвертая промышленная революция. Четвертый этап, стартовавший в начале XXI века и продолжающийся по настоящее время, знаменует развитие персональных интеллектуальных машин и появления возможности мгновенного доступа к информации практически из любой точки мира благодаря интернету и прочим информационным сетям. Появляются автономные машины и транспортные средства, компьютеры заменяют людей на многих производствах, которые ранее считались невозможными для машин, – теперь они выполняют задачи юристов, бухгалтеров и даже врачей низкого уровня (например, читают магнитно-резонансные и рентгеновские снимки и даже выписывают рецепты).
Пятая промышленная революция. Пятый этап, который на данный момент является скорее мечтой, чем реальностью, открывает возможности квантовых вычислений, полностью автоматизированных и высокоинтеллектуальных систем, повышения безопасности с помощью шифрования и блокчейна, а также кибервалют. Новые открытия происходят в биологии, где разрабатываются всевозможные методы для работы с ДНК: секвенирование, синтезирование, вырезание и так далее. Умные сенсоры кардинально меняют возможности машин, науки и медицины. Туристы совершают космические путешествия (по непомерно высоким ценам). По всему миру распространяются новые пандемии. И несмотря на растущую озабоченность опасностью глобального потепления, на разработку вооружений и армий тратится больше денег, чем на общественные нужды и способы противодействия изменению климата.
Эти пять этапов обусловлены в первую очередь технологическим прогрессом. Как следствие, они игнорируют многие важные компоненты человеческого поведения, во‐первых, такое понятие, как «эра отходов» (о нем говорится в части III). Во-вторых, огромное влияние технологий на жизнь людей, поскольку некоторые, потерявшие работу из-за автоматизации, не смогут овладеть навыками, необходимыми для другой работы. Эти этапы возводят в абсолют использование математических моделей и точное измерение бессмысленных переменных, игнорируя важные переменные, не поддающиеся точному измерению (об этом говорится в части II). Изменение климата? «Простой технологический сбой, – говорят промышленные революционеры пятого поколения. – Мы можем решить эту проблему с помощью технологий». Нет, не можем, потому что первопричина проблемы – человеческое поведение.
Модернизм, технологии и нынешние формы экономической теории служат препятствием на пути улучшения жизни, о чем вы узнаете далее в книге.
4. Точные – но искусственные – измерения
Такие внешние факторы, как время года, погода и прочие аспекты жизни, влияют на нашу деятельность, эмоции, циклы сна и здоровье. Переживания эти субъективны – термин, который не одобряют ученые-физики, но который в действительности означает просто нечто «личное». На них влияют, например, наши чувства, вкусы, убеждения и эмоции. Ученых-физиков очень смущает неопределенность субъективных переживаний, и они заменили их крайне искусственными системами определений и измерений. Я не возражаю против необходимости точных, воспроизводимых измерений. Возражения вызывает то, что эти точные и искусственные определения, необходимые для науки, часто используются для описания нашего собственного, глубоко личного опыта, и, как следствие, то, что они слишком глубоко проникли в нашу повседневную жизнь и влияют на нее даже тогда, когда какая-то ситуация не имеет ничего общего с научной потребностью в повышенной точности.
Рассмотрим для начала две крайне искусственные системы, доминирующие в нашей жизни, несмотря на свою произвольность и неестественность: научное определение сезонов («времен года») и научное измерение времени суток.
Вот вам два вопроса для размышления:
1. Почему мы смотрим в календарь, чтобы узнать, когда начнется лето, а не смотрим на погоду за окном? Разве не конкретная погода важнее для людей и всех остальных живых существ? Времена года, определяемые наукой, искусственны.
2. Почему мы смотрим на часы, чтобы определить время приема пищи, а не спрашиваем у своего желудка? Разве нас не волнуют в первую очередь потребности нашего организма и его сигналы, а не время суток? Время суток, определяемое наукой, искусственно.
Определяемые наукой времена года искусственны
Почему в году выделяют четыре сезона? Большинству из вас, вероятно, никогда не приходил в голову этот вопрос. Если вы родились и большую часть жизни провели на условном Глобальном Севере, то вам кажется совершенно естественным и уместным делить год на четыре сезона, даты начала и окончания каждого из которых точно определяются положением Земли на ее пути вокруг Солнца. Мы определяем времена года не по фактической температуре или погоде, не отмечая важность сезонов для сельского хозяйства и человеческой деятельности, а в зависимости от произвольных астрономических циклов и календарных дат.
Смена сезонов – это естественный результат наклона Земли при ее вращении вокруг Солнца, из-за чего в разное время на планету попадает разное количество солнечного света, а погода в течение года меняется. Легко понять, почему люди, живущие в Северном и Южном полушариях, разделили год на две большие части: одну теплую, когда дни длиннее ночей, и другую холодную, когда ночи длиннее дней.
В странах вблизи экватора количество дневного света и средняя температура не сильно различаются в течение года. Тем не менее многие из них копируют навязанную им Глобальным Севером схему, различая четыре времени года, хотя для них эти различия бессмысленны. Во многих из них можно было бы просто делить год на такие два сезона, как дождливый и засушливый, и в некоторых действительно используются такие обозначения.
Так почему же у нас четыре времени года? Может быть, потому что существует некое «естественное» деление года? Мы называем теплый и светлый период «летом», а холодный и темный – «зимой»; к ним добавляем два переходных периода: «весну», обозначающую переход к лету, и «осень», обозначающую переход к зиме.
Астрономы произвольно разделили год на четыре сезона, основываясь на положении Земли во время ее движения вокруг Солнца. Обратите внимание, что здесь важную роль играет не расстояние от Солнца, а угол наклона оси Земли относительно ее эллиптической траектории вокруг Солнца, из-за чего в разных точках этой траектории продолжительность дня и ночи бывает разной (за исключением экваториальных областей). Наука игнорирует наш реальный опыт и естественное биологическое поведение всех живых существ, утверждая, что год делится на четыре части, границы которых отмечаются двумя солнцестояниями и двумя равноденствиями, и поэтому мы приняли такое деление года на четыре сезона с искусственными датами начала и окончания.

