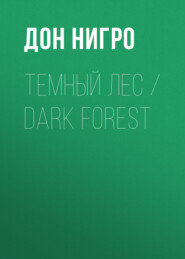По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Пушкин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ПУШКИН. Танцы – это не все.
НАТАЛЬЯ. Вы ошибаетесь. Танцы – это все. Единственная форма близости, которая действительно приносит удовлетворение.
ПУШКИН. Но сближаться можно иначе.
НАТАЛЬЯ. Да, но эти способы отвратительны.
ПУШКИН. Тогда, боюсь, мое положение безнадежно.
НАТАЛЬЯ. Не огорчайтесь. Оно было бы безнадежным в любом случае. Вы – писатель. И станете отвратительным мужем для какой-нибудь несчастной женщины. Желание писать не оставит вас никогда.
ПУШКИН. Такая женщина, как вы, способна выманить меня из-за письменного стола.
НАТАЛЬЯ. Ага. Неуклюжий комплимент, свидетельствующий о желании понравиться. Когда у вас в штанах все горит, вы такие дурачки. Теперь вы захотите меня поцеловать, а если я вам разрешу, исключительно из милосердия, вас это только раззадорит, и закончится все разбитым сердцем. Я переменчива, знаете ли. Не могу сосредотачиваться на одном человеке дольше двух недель. Плюс моя семья постоянно балансирует на грани финансовой или душевной катастрофы, так что приданого за мной нет.
ПУШКИН. И тем не менее, возможно, мы – две заблудшие души, которым суждено идти вместе, несмотря на все преграды.
НАТАЛЬЯ. Вот это уж совсем гнетущая мысль. (К ним направляется БЕНКЕНДОРФ). О, нет. Сюда идет этот ужасный граф Бенкендорф, из тайной полиции. Если он пригласит меня на танец, я умру.
БЕНКЕНДОРФ. За вами танец, прекрасная дама, и я пришел, чтобы получить должок.
НАТАЛЬЯ (прикладывает руку к уху, словно прислушиваясь). Что? (Обращаясь к БЕНКЕНДОРФУ, убегая). Извините. Зовет сестра. Может, в следующий раз.
БЕНКЕНДОРФ. Она жуткая лгунья, но невероятно хороша. Я сочувствую мужчине, который на ней женится.
ПУШКИН. Сочувствуете?
БЕНКЕНДОРФ. Я сказал, сочувствую? Нет, завидую, конечно. И обнаженная она еще более красива.
ПУШКИН. Что?
БЕНКЕНДОРФ. Как я себе это представляю, разумеется. Только не подумайте, что я пытался оскорбить даму.
ПУШКИН. Будьте осторожны.
БЕНКЕНДОРФ. Вы говорите мне, будьте осторожны?
ПУШКИН. Да.
БЕНКЕНДОРФ. Я всегда осторожен. Это вы пренебрегаете осторожностью. Кстати, царь прочитал вашу пьесу, и он полагает, пусть она и не без достоинств, история была бы куда более увлекательной, как исторический роман, в манере сэра Вальтера Скотта.
ПУШКИН. Это не роман. Пьеса.
БЕНКЕНДОРФ. Царь думает, что это должен быть роман. С нетерпением ждет исправленного вами текста.
ПУШКИН. Я крайне признателен Его императорскому величеству, который не счел за труд поделиться со мной своими мыслями, но, боюсь, переделать уже написанное выше моих сил.
БЕНКЕНДОРФ. Вы не должны недооценивать собственные способности. Если вы настроитесь, я уверен, все у вас получится.
ПУШКИН. Я так не думаю.
БЕНКЕНДОРФ. К счастью то, что вы думаете, особо значения не имеет. Вы всего лишь автор.
ПУШКИН. И тем не менее.
БЕНКЕНДОРФ. То есть переписывать текст вы отказываетесь?
ПУШКИН. Я лишь заявляю, что мои способности, как автора, ограничены.
БЕНКЕНДОРФ. Должен предупредить вас, что царь будет очень разочарован. Участие ваших друзей в декабрьском заговоре не забыто, знаете ли. И лучше бы вам помнить, чем для них все закончилось. Некоторые ваши стихи были до абсурда дерзкими.
«Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим».
Право же, какое мальчишество.
ПУШКИН. Я этого не писал.
БЕНКЕНДОРФ. Мои источники говорят, что писали.
ПУШКИН. Ваши источники невежественные, роящиеся в экскрементах свиньи.
БЕНКЕНДОРФ (пауза: он смотрит на ПУШКИНА, потом говорит, сдерживая себя). Царь проявляет необычайный интерес к вашей работе. Готов читать все, написанное вами. Отныне присылайте ваши произведения непосредственно мне, до получения разрешения на публикацию. Мне не терпится начать работать с вами, и я уверен, что мы вдвоем, ведомые мудростью царя, сможем добиться очень и очень многого. А теперь я отправлюсь на поиски этой обольстительной девушки и постараюсь уломать ее на танец со мной. Какой смысл возглавлять тайную полицию, если страх перед тобой не убеждает симпатичных женщин идти навстречу твоим желаниям? Правда?
(БЕНКЕНДОРФ уходит, оставляя ПУШКИНА одного, раздраженного и встревоженного, тогда как свет тускнеет, а бальная музыка сменяется цыганской).
Картина 3
(Вечер в цыганском таборе на ярмарке. ПУШКИН прогуливается с ГОГОЛЕМ).
ГОГОЛЬ. Ярмарка – мое любимое время года. Больше всего походит на мою жизнь: череда смутных отражений в лабиринте зеркал под дождем. Хорошо сказал. Надо это записать. Я всегда помню эти блистательные мысли, но потом забываю. Но нет. К черту. Все это дерьмо. Если бы я мог писать, как ты, то не был бы таким уродливым.
ПУШКИН. Ты очень хороший писатель.
ГОГОЛЬ. Да, но я еще и странный. Люди странности не любят. Ты бередишь душу. Я взмучиваю воду. Гоголь гротескный и слишком необычен для нормальных людей. Но Пушкин циничный и его мы можем боготворить.
ПУШКИН. Я не хочу, чтобы меня боготворили.
ГОГОЛЬ. Ты даже лжешь прекрасно. И спишь с пятью женщинами на дню. Я провожу большинство ночей, передвигая мебель, кукарекая как петух и напевая русские народные песни. Поднимаюсь с кровати, чтобы отлит, я натыкаюсь на комод. Мебель стоит не там, куда я ее ставил. Я убежден, стоит мне заснуть, как она перемещается по комнате. НА полу я нахожу следы от львиных лап на ножках стульев.
ПУШКИН. А может, ты просто выжил из ума.
ГОГОЛЬ. Что ж, отчасти это так. Я унаследовал это у матери. Она верит, что я изобрел паровой двигатель и написал книгу Плач Иеремии. Иногда я думаю, что так оно и есть. (Мимо проходит Смерть, в черном плаще и маской-черепом). Привет? Как поживаете? Дела идут хорошо?
СМЕРТЬ. Не жалуюсь.
ГОГОЛЬ. Что ж, продолжайте в том же духе.