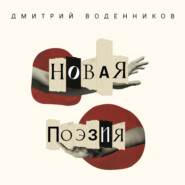По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Стихи обо всем
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ни то, что мной уже не сможет – быть.
А что уж там во мне рвалось и пело,
и то, что я теперь пою и рвусь,
так это все мое (сугубо) дело,
и я уж как-нибудь с собою разберусь.
Смирюсь ли я, сорвусь ли, оскудею
или попробую другим путем устать,
я все равно всегда прожить сумею,
я все равно всегда посмею стать.
Но – что касается других:
всех тех, которых нет,
которых не было,
которых много было —
то если больно им
глядеть на этот свет
и если это важно вам – спасибо.
«Когда бы я как Тютчев жил на свете…»
Когда бы я как Тютчев жил на свете
и был бы гениальней всех и злей —
о! как бы я летел, держа в кармане
Стромынку, Винстон, кукиш и репей.
О как бы я берег своих последних
друзей, врагов, старушек, мертвецов
(они б с чужими разными глазами
лежали бы плашмя в моем кармане),
дома, трамваи, тушки воробьев.
А если б все они мне надоели,
я б вывернул карманы и тогда
они б вертелись в воздухе, летели:
все книжки, все варьянты стихтворений,
которые родиться не успели
(но даже их не пожалею я).
Но почему ж тогда себя так жалко – жалко
и стыдно, что при всех, средь бела дня,
однажды над Стромынкой и над парком,
как воробья, репейник и скакалку,
Ты из кармана вытряхнешь – меня.
Стихи обо всем
Влюбленные смотрят друг другу в глаза, но не видят тебя, а видят куски мешковины и куклу из тряпок. – Посмотри на меня! – Я совсем не твоя судьба, я товарищ тебе, твой любовник, цветок и собака.
…Кстати, о собаке. Когда я ложусь спать и выключаю свет, она стоит внизу у кровати, там, в темноте, и терпеливо ждет, когда я ей дам команду: – Иди сюда. (Она очень воспитанная собака). И вот я говорю: иди ко мне! – и она начинает прыгать, прыгать, как оглашенная, цепляясь передними лапами за кровать, вытягивая морду, подрагивая невидимыми миру ушами, карабкаясь и срываясь.
Она так отчаянно хочет выбраться ко мне из этого мрака, так хочет забраться сюда, под защиту, в привычную жизнь, на подушку, в родное тепло, что мне вдруг начинает казаться, что это другой мрак и другие прыжки…
Как будто я зову ее из тьмы, она прыгает, прыгает и когда-нибудь не допрыгнет.
1.
Пасха. Буддийский божок сидит на порожке —
попой ко мне, мордой к балкону
(весь обласканный солнцем, с хвостиком
посередке),
буркает на прохожих, заливается периодическим
басом.
– Ну что, – говорю, – Барабашка, не веришь
в нашего бога?
Обернулся божок, улыбается, не отвечает.
2.
А ведь раньше было не так: вот уж любили
друг друга – так это любили,
ссали на место, бегали друг за другом,
я с мокрой тряпкой – за ней, а она —
от меня и по кругу,
забивалась черным комком под трубу в туалете,
закрывала глаза, утыкалась мордою в угол,
и, как цуцик, дрожала и была так тлетворно —
моя.
А бежать было некуда: был я один на свете,
круглый как бог и безжалостный как земля.
И так все это было по-пахански, по-лагерному,
скучно, невыносимо,
что однажды она приползла ко мне утром
(четырехмесячная), после очередных побоищ,
вскарабкалась мне на грудь,
легла и заснула,
и такая тоска воцарилась,
что я только смотрел брезгливо
на нежный ее звериный затылок,
на поникшие уши ее, на пахучий детский висок —
и вдруг так отчетливо понял: Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
И УЖЕ НИКОГДА НЕ СМОГУ ПОЛЮБИТЬ —
НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
…а когда мы очнулись – уже наступила весна
и мы спали обнявшись, как две разноцветные
гусеницы,
А что уж там во мне рвалось и пело,
и то, что я теперь пою и рвусь,
так это все мое (сугубо) дело,
и я уж как-нибудь с собою разберусь.
Смирюсь ли я, сорвусь ли, оскудею
или попробую другим путем устать,
я все равно всегда прожить сумею,
я все равно всегда посмею стать.
Но – что касается других:
всех тех, которых нет,
которых не было,
которых много было —
то если больно им
глядеть на этот свет
и если это важно вам – спасибо.
«Когда бы я как Тютчев жил на свете…»
Когда бы я как Тютчев жил на свете
и был бы гениальней всех и злей —
о! как бы я летел, держа в кармане
Стромынку, Винстон, кукиш и репей.
О как бы я берег своих последних
друзей, врагов, старушек, мертвецов
(они б с чужими разными глазами
лежали бы плашмя в моем кармане),
дома, трамваи, тушки воробьев.
А если б все они мне надоели,
я б вывернул карманы и тогда
они б вертелись в воздухе, летели:
все книжки, все варьянты стихтворений,
которые родиться не успели
(но даже их не пожалею я).
Но почему ж тогда себя так жалко – жалко
и стыдно, что при всех, средь бела дня,
однажды над Стромынкой и над парком,
как воробья, репейник и скакалку,
Ты из кармана вытряхнешь – меня.
Стихи обо всем
Влюбленные смотрят друг другу в глаза, но не видят тебя, а видят куски мешковины и куклу из тряпок. – Посмотри на меня! – Я совсем не твоя судьба, я товарищ тебе, твой любовник, цветок и собака.
…Кстати, о собаке. Когда я ложусь спать и выключаю свет, она стоит внизу у кровати, там, в темноте, и терпеливо ждет, когда я ей дам команду: – Иди сюда. (Она очень воспитанная собака). И вот я говорю: иди ко мне! – и она начинает прыгать, прыгать, как оглашенная, цепляясь передними лапами за кровать, вытягивая морду, подрагивая невидимыми миру ушами, карабкаясь и срываясь.
Она так отчаянно хочет выбраться ко мне из этого мрака, так хочет забраться сюда, под защиту, в привычную жизнь, на подушку, в родное тепло, что мне вдруг начинает казаться, что это другой мрак и другие прыжки…
Как будто я зову ее из тьмы, она прыгает, прыгает и когда-нибудь не допрыгнет.
1.
Пасха. Буддийский божок сидит на порожке —
попой ко мне, мордой к балкону
(весь обласканный солнцем, с хвостиком
посередке),
буркает на прохожих, заливается периодическим
басом.
– Ну что, – говорю, – Барабашка, не веришь
в нашего бога?
Обернулся божок, улыбается, не отвечает.
2.
А ведь раньше было не так: вот уж любили
друг друга – так это любили,
ссали на место, бегали друг за другом,
я с мокрой тряпкой – за ней, а она —
от меня и по кругу,
забивалась черным комком под трубу в туалете,
закрывала глаза, утыкалась мордою в угол,
и, как цуцик, дрожала и была так тлетворно —
моя.
А бежать было некуда: был я один на свете,
круглый как бог и безжалостный как земля.
И так все это было по-пахански, по-лагерному,
скучно, невыносимо,
что однажды она приползла ко мне утром
(четырехмесячная), после очередных побоищ,
вскарабкалась мне на грудь,
легла и заснула,
и такая тоска воцарилась,
что я только смотрел брезгливо
на нежный ее звериный затылок,
на поникшие уши ее, на пахучий детский висок —
и вдруг так отчетливо понял: Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
И УЖЕ НИКОГДА НЕ СМОГУ ПОЛЮБИТЬ —
НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
…а когда мы очнулись – уже наступила весна
и мы спали обнявшись, как две разноцветные
гусеницы,