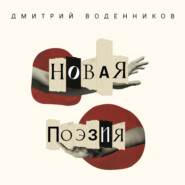По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бессмертная стрекоза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Дичок, медвежонок, Миньона», – повторяю я про себя.
(Это из списка нежных слов для мертвой женщины у Мандельштама. «Возможна ли женщине мертвой хвала?»)
А если подобрать такие слова к самому Мандельштаму – что это будет?
Сверчок, кузнечик, скандалист?
Щегол, звучащая раковина, старик?
Чего-то там бормочет себе под нос. «Мы только с голоса поймем, что там царапалось, боролось».
И вдруг учудит скандал.
Известная история с пощечиной Алексею Толстому.
Сейчас даже не хочется уточнять – какие-то деньги, не вернули долг, молодой поэт Саргиджан: он, вместо того чтоб вернуть, накупил продуктов; Мандельштам увидел его, кричит в форточку: «Вот, молодой поэт не отдает старшему товарищу долг, а сам приглашает гостей и распивает с ними вино». Началась ссора. Саргиджан полез с кулаками на Мандельштама, получила свое и Надежда Яковлевна. (Вот же: не хотел рассказывать – рассказал; с Мандельштамом всегда так.)
Потом был товарищеский суд, председатель Алексей Толстой встал на сторону Саргиджана. Молодой поэт, новые голоса, будущее литературы. Недопустимое поведение старшего товарища поэта Мандельштама. Еще и жена ввязалась.
Молодого поэта все-таки обязали вернуть по возможности деньги. (Мне нравится это «по возможности».)
Этого Осип Эмильевич стерпеть тоже не смог.
Через два года Мандельштамы едут в Ленинград. В «Издательстве писателей» Мандельштам встречает Толстого, и прямо там Толстой и получает своего отложенного леща.
«Вот вам за товарищеский суд!» – кричит О.М.
Скандал вспыхнул снова.
Известный поэт Перец Маркиш реагирует изысканно: «О, еврей дал пощечину графу».
Роняет свое увесистое слово Горький: «Мы ему покажем, как бить русских писателей».
…В сущности, вся эта история с долгом и потом битьем по лицу – бунт маленького человека. Шинель Башмачкина. Месть за то, что шинель у него украли, а потом еще и на товарищеский суд вызвали.
Мандельштам в бытовом своем поведении и есть этот взбунтовавшийся Башмачкин. Вся разница в том, что этот смешной и вздорный еврейский Башмачкин был не переписчиком, а гениальным поэтом.
Вот из Гоголя:
Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», – подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» – сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, примолвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади.
Этот недолетающий голос и эти мелькнувшие на злоумышленниках случайные усы на этом не закончатся и еще будут записаны: Мандельштам и на Сталина потом прыгает, как Башмачкин прыгал на гоголевское Значительное Лицо.
Снова из Николая Васильевича:
Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном виц-мундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, – отдавай же теперь свою!» Бедное значительное лицо чуть не умер. <…> Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!»
Только реальный Сталин реального Мандельштама, еще не пахнувшего могилой, не испугался. Есть версия, что ему даже эта «эпиграмма» польстила (вокруг-то все тонкошеие). Мы все помним начало текста (но тонкошеие вожди появятся там только во второй строфе).
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
<…>
Шинель маленькому гоголевскому человеку Мандельштаму за все это безобразие, разумеется, не отдали, но и наказание было на удивление мягким. Ссылка. Это потом уже все кончилось лагерем. Но сколько воды сперва утекло.
…Интересен тут еще и мотив «глухоты».
Речи, как известно из стихотворения, не слышны за десять шагов – но почему именно за десять?
Юрий Фрейдин, врач-психиатр и литературовед, сопредседатель Мандельштамовского общества, высказывает любопытную версию.
Оказывается, тогда при призыве в армию такое было расстояние для проверки слуха в кабинете отоларинголога.
У Мандельштама мелькала тема «неслышания» – в его гениальном «Ламарке» («Наступает глухота паучья, здесь провал сильнее наших сил»), теперь вот и мотив беззвучности, полубеззвучности.
То есть теперь не только глухота, но и само отсутствие звука. Мост вот-вот поднимется, и нам по подвижной лестнице Ламарка уже не сбежать.
И еще одно очень интересное чужое наблюдение.
Оказывается, в 1938 году, когда Осипа Мандельштама арестовали повторно, никто из следователей не припомнил ему этот текст. Что странно.
Опять Фрейдин:
Никто из упомянутых Осипом Эмильевичем в 1934 году слушателей за это стихотворение, за то, что он его слышал, не пострадал, привлечен не был. Единственный человек, кому это стихотворение вменялось, это был Лев Николаевич Гумилёв, который, собственно, был повторно арестован и пошел в лагерь по доносу, где фигурировало, в частности, чтение им этого стихотворения.
Но Мандельштам-то, Мандельштам – сам хорош: «Я написал стихотворение, за которое меня могут расстрелять», – а теперь читает его налево и направо. Дичок, медвежонок, Миньона. Скворец, кузнечик, человек, физически не способный микшировать свой голос.
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гёте, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
Вот так и бродит этот призрак, призрак Мандельштама. По русской литературе. И по городам: Москва, Петербург, Воронеж.
И памятник ему не поставишь (ну то есть поставишь, но тоже как-то криво, в закутке, – вот Ахматову поставили так поставили: там, где просила; а Мандельштам не просил).
Это какая улица?
Улица Мандельштама.