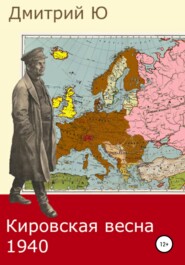По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кировская весна 1936-1937
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
07.11.36 Мадрид. Чудо
Этого не могло произойти – и это случилось. Деморализованные бойцы мадридского фронта, еще вчера готовые оставить позицию только из-за одной сброшенной на расстоянии прямой видимости 100-килограммовой бомбы, не причинившей никакого действительного вреда, упершись спинами в стены мадридских домов, вдруг словно обрели второе дыхание.
Неожиданно, без всяких материальных поводов типа листовки или радиопередачи, но от того мгновенно и повсеместно, как это всегда бывает при передаче информации из уст в уста, их охватило две идеи. Первое: они не одни. По какому-то неизъяснимому выверту национальной психологии для испанцев оказалось крайне важным знать, что они не стоят в одиночестве против Германии, Италии и мавров, а напротив, не только у противников, но и у них есть – за горами и лесами – есть могучие союзники. Каждый пролет советского истребителя слово смывал с души липкое, удушающее марево безнадежности.
Вторая идея так же базировалась на психологии – отступать было некуда. Почему-то стало ясно, не требующим доказательств манером, что приход мавров Франко в Мадрид означал для них не смену политического режима, а смерть – и для себя, и для близких.
Одновременно сыграли и еще два немаловажных фактора. Во-первых, в Мадриде стало меньше руководителей и больше руководства. Больше не стало удушающих любую инициативу многочасовых совещаний у Кабальеро. Небольшая Хунта Обороны Мадрида имела так мало членов, что просто не смогла дважды обсуждать один вопрос. По каждому конкретному поводу сразу принималось первое попавшееся (и часто верное) решение, и более к нему не возвращались.
Во-вторых, Мадридский фронт наконец оказался усилен еще несколькими десятками превосходных советских танков Т-26 (их число дошло до 50) и бронемашин, а также двадцатью истребителями И-16 и эскадрильей супер-бомбардировщиков СБ, которые в силу своих скоростных свойств оказались неуязвимы для истребителей противника. Как самолеты, так и танки по своим качествам крыли немецкие и итальянские аналоги, как бык овцу.
{РИ}
12.11.36 Николай Воронов
В дни боев под Мадридом я любил нести вахту на башне «Телефоники», откуда удобнее всего руководить борьбой с вражеской артиллерией. Особенно привлекательны были дневные часы – с двух до четырех. Это время обеда. Как ни странно, в эти часы вовсе прекращались боевые действия с обеих сторон. В обеденное время я часто ходил в полный рост по передовым позициям, вне окопов и ходов сообщения и ни разу не попадал под огонь – обед у испанцев был своего рода всеобщим священнодействием. С башни «Телефоники» прекрасно просматривалось оживленное движение во вражеском стане в эти обеденные часы, что помогало нам заполучить немало ценных данных.
Однажды перед обедом, наблюдая с башни «Телефоники» за боевыми порядками фашистских войск, я обнаружил 155-миллиметровую батарею противника, которая, по-видимому, готовилась стрелять по Мадриду. Я показал эту цель командиру батареи, который имел наблюдательный пункт в этом же здании, и помог ему перенести огонь с ранее пристрелянной цели на вновь обнаруженную. Командир батареи экономил снаряды и с моей помощью корректировал каждый разрыв.
Вскоре мы отчетливо увидели прямое попадание в одно из орудий противника, а затем и в другое. На позиции фашистской батареи началась суматоха.
Вдруг раздалась решительная команда командира батареи:
– Альто! (Стой!)
В чем дело? – воскликнул я. – Почему батарея перестала стрелять?
– Комида! – ответил переводчик. – Обед!
Мои увещевания не помогли: командир и все находившиеся с ним немедленно приступили к обеду. Артиллеристы уверяли, что сразу же после обеда фашистская батарея будет добита, она никуда не уйдет – у мятежников ведь тоже обед!
Этот обычай стал меня уже раздражать. Я отказался от предложенного мне обеда и вина и в продолжение двух часов, пока длился обеденный перерыв, непрерывно вел наблюдение за недобитой батареей противника. В конце второго часа к разбитым орудиям подошла грузовая автомашина, в нее погрузили убитых и раненых.
Ровно в четыре часа дня раздалась команда:
– Фуэго! (Огонь!)
Стрельба возобновилась. Разрывы ложились вблизи молчаливо стоящих орудий противника. Командир республиканской батареи оказался все-таки прав: мятежники за время обеда так и не притронулись к своим пушкам.
{28}
13.11.36 Михаил Кольцов
Как и в предыдущие дни, в два часа пополудни над городом появились «юнкерсы» в сопровождении своих истребителей. Миаха покраснел от злости, он ударил пухлым своим кулаком по обеденному столу:
– Когда они завтракают?! И сами не едят, и другим не дают. Прошу вас не вставать из-за стола.
Впрочем, он сам соблазнился и побежал с салфеткой на шее на балкон, когда ему сказали, что бой идет над самым зданием военного министерства.
«Юнкерсы» уже сбежали, «курносые» атаковали «хейнкелей». На крутых виражах и пике они мелькали раскрашенными, как у бабочек, крыльями, – это повергало в восторг публику, жадно наблюдавшую с земли.
Затем бой отнесло за угол дома, и ничего не стало видно. Все уселись продолжать завтрак. Еще через пять минут сообщили по телефону, что несколько машин сбито, один из пилотов спрыгнул на парашюте и взят в плен. Миаха приказал привезти его сюда, в штаб. Минут через десять послышался невероятный шум и вопль толпы. С балкона видно было, как к ограде медленно подъехал автомобиль, облепленный со всех сторон и даже сверху людьми. Дверца раскрылась, изнутри вытащили кого-то, поволокли через сад министерства.
Куча сопровождающих и зевак хлынула внутрь здания. Я вышел на лестницу – по ее широким ступеням наполовину вели, наполовину несли вверх атлетического молодого человека с гримасой боли на лице; он обхватил руками живот, как если бы у него лопнул пояс и падали брюки.
Это вовсе не был фашистский летчик. Это был – я узнал его с первого взгляда – советский летчик Сергей Федорович Тархов, командир эскадрильи истребителей И-16.
Почему его так волокут? Он очень бледен, спотыкается, плохо видит перед собой. В большой комнате, где работает Рохо со своими помощниками, он рушится на диван, чуть не сломав его могучим телом.
– Сережа, это ты прыгнул с парашютом? Тебя атаковали?
Он тяжело дышит.
– Дай мне воды. У меня прострелен живот.
– Сережа!
– Это сумасшедший дом какой-то! Почему они стреляют в своих? Дай мне воды тотчас же! У меня огонь в животе. Много пуль в кишках. Дай воды, и тогда я расскажу, как было.
– Сережа, не надо рассказывать. Нельзя пить, если рана в животе. Сейчас тебя положат, отвезут в «Палас».
– Скорее в госпиталь и немножко воды! Надо потушить огонь от пуль. Не теряйся, пожалуйста, из виду! Шесть штук гадов на меня напали. Я пошел под облака, и вдруг сразу шесть «хейнкелей» – со всех сторон, все на меня! Очень прошу, не теряйся из виду!
– Я не потеряюсь из виду. Я с тобой поеду в «Палас». Это госпиталь. Я там же и живу, рядом с тобой. Сережа, милый, не разговаривай, я тебе запрещаю!
Вся комната слушает в ужасе. Зачем раненого республиканского летчика притащили сюда, почему не в лазарет? Начинается галдеж, все взаимно обвиняют друг друга. Все сходятся на том, что во всем виноват приказ Миахи. Велено было им привезти летчика сюда, вот и привезли. Но приказ был основан на ложной информации, на том, что с парашютом сбросился летчик-фашист. Нужно ли было идиотски или провокационно выполнять приказ, основанный на ложной информации? Все сходятся на том, что исполнять не надо было. Никто не зовет санитаров и носилки. Все сходятся на том, что надо позвать санитара и носилки. Тархов начинает сползать с дивана, веки его опускаются. Наконец, вот санитары и носилки. Тархова берут, весьма неловко, с дивана, кладут на носилки, кладут вкось. Одного санитара толкнули, он выпустил ручку, Тархов грохнулся на пол. Все кричат от ужаса и боли, один только Сережа не кричит. Его опять берут, опять кладут, мы спускаемся к санитарной карете, едем до «Паласа» только три минуты. Его несут в операционную. Здесь толчея, курят, груды грязной ваты, неубранные пальцы рук, ступни ног и еще какая-то непонятная часть тела, похожая на колено, лежат в большом тазу, дожидаясь санитарки; на стене висит плакат с танцующей парой: «Проводите лето в Сантандере». Сергея кладут на операционный стол, он вдруг кажется ребенком, а ведь такой большой…
Через два часа доктор Гомес Улья пришел сказать, что Тархов уже оперирован, лежит рядом в комнате, зовет и нервничает. Из кишечника извлечены четыре пули, еще две оставлены во внутренних органах, извлекать их очень опасно. Все дело в том, чтобы раненый был совершенно неподвижен, иначе начнется перитонит – и тогда все кончено. У летчика, видимо, богатырское здоровье, у него есть шансы спастись, если только будет обеспечена полная неподвижность его в постели. Но он очень беспокоен. Он нервничает и зовет. Он хочет что-то объяснить.
Я пошел к Сереже. Он и в самом деле очень нервничает. Прежде всего я должен взять листок бумаги и записать его рапорт.
– Понимаешь, документа нет. Надо составить документ…
– Какой тебе документ? Ты дрался, мужественно, героически дрался, ранен, поправляешься – о документах другие позаботятся.
– Нельзя без документа. В аэродромном журнале записано, когда мы вылетали по тревоге. Пожалуйста, эту дату возьми и подставь в рапорт. Я-то помню точно – пятнадцать сорок восемь, – но ты сверь с журналом, ведь это же документ!
– Ты хочешь сказать: тринадцать сорок восемь? В пятнадцать сорок восемь тебя уже оперировали…
– Постой, постой! Я ведь помню точно – вчера, в пятнадцать сорок восемь, в пятнадцать…
– Не вчера, а сегодня, – ведь бой-то был сегодня, три часа тому назад!
Он встревожился:
– Сегодня?! Разве сегодня?! Что же это у меня память отшибло? Ты шутишь! Разве сегодня был бой? Какое же сегодня число?
– Сегодня… Ты был под наркозом. Все это неважно. Главное – не двигаться, поправляться.
Этого не могло произойти – и это случилось. Деморализованные бойцы мадридского фронта, еще вчера готовые оставить позицию только из-за одной сброшенной на расстоянии прямой видимости 100-килограммовой бомбы, не причинившей никакого действительного вреда, упершись спинами в стены мадридских домов, вдруг словно обрели второе дыхание.
Неожиданно, без всяких материальных поводов типа листовки или радиопередачи, но от того мгновенно и повсеместно, как это всегда бывает при передаче информации из уст в уста, их охватило две идеи. Первое: они не одни. По какому-то неизъяснимому выверту национальной психологии для испанцев оказалось крайне важным знать, что они не стоят в одиночестве против Германии, Италии и мавров, а напротив, не только у противников, но и у них есть – за горами и лесами – есть могучие союзники. Каждый пролет советского истребителя слово смывал с души липкое, удушающее марево безнадежности.
Вторая идея так же базировалась на психологии – отступать было некуда. Почему-то стало ясно, не требующим доказательств манером, что приход мавров Франко в Мадрид означал для них не смену политического режима, а смерть – и для себя, и для близких.
Одновременно сыграли и еще два немаловажных фактора. Во-первых, в Мадриде стало меньше руководителей и больше руководства. Больше не стало удушающих любую инициативу многочасовых совещаний у Кабальеро. Небольшая Хунта Обороны Мадрида имела так мало членов, что просто не смогла дважды обсуждать один вопрос. По каждому конкретному поводу сразу принималось первое попавшееся (и часто верное) решение, и более к нему не возвращались.
Во-вторых, Мадридский фронт наконец оказался усилен еще несколькими десятками превосходных советских танков Т-26 (их число дошло до 50) и бронемашин, а также двадцатью истребителями И-16 и эскадрильей супер-бомбардировщиков СБ, которые в силу своих скоростных свойств оказались неуязвимы для истребителей противника. Как самолеты, так и танки по своим качествам крыли немецкие и итальянские аналоги, как бык овцу.
{РИ}
12.11.36 Николай Воронов
В дни боев под Мадридом я любил нести вахту на башне «Телефоники», откуда удобнее всего руководить борьбой с вражеской артиллерией. Особенно привлекательны были дневные часы – с двух до четырех. Это время обеда. Как ни странно, в эти часы вовсе прекращались боевые действия с обеих сторон. В обеденное время я часто ходил в полный рост по передовым позициям, вне окопов и ходов сообщения и ни разу не попадал под огонь – обед у испанцев был своего рода всеобщим священнодействием. С башни «Телефоники» прекрасно просматривалось оживленное движение во вражеском стане в эти обеденные часы, что помогало нам заполучить немало ценных данных.
Однажды перед обедом, наблюдая с башни «Телефоники» за боевыми порядками фашистских войск, я обнаружил 155-миллиметровую батарею противника, которая, по-видимому, готовилась стрелять по Мадриду. Я показал эту цель командиру батареи, который имел наблюдательный пункт в этом же здании, и помог ему перенести огонь с ранее пристрелянной цели на вновь обнаруженную. Командир батареи экономил снаряды и с моей помощью корректировал каждый разрыв.
Вскоре мы отчетливо увидели прямое попадание в одно из орудий противника, а затем и в другое. На позиции фашистской батареи началась суматоха.
Вдруг раздалась решительная команда командира батареи:
– Альто! (Стой!)
В чем дело? – воскликнул я. – Почему батарея перестала стрелять?
– Комида! – ответил переводчик. – Обед!
Мои увещевания не помогли: командир и все находившиеся с ним немедленно приступили к обеду. Артиллеристы уверяли, что сразу же после обеда фашистская батарея будет добита, она никуда не уйдет – у мятежников ведь тоже обед!
Этот обычай стал меня уже раздражать. Я отказался от предложенного мне обеда и вина и в продолжение двух часов, пока длился обеденный перерыв, непрерывно вел наблюдение за недобитой батареей противника. В конце второго часа к разбитым орудиям подошла грузовая автомашина, в нее погрузили убитых и раненых.
Ровно в четыре часа дня раздалась команда:
– Фуэго! (Огонь!)
Стрельба возобновилась. Разрывы ложились вблизи молчаливо стоящих орудий противника. Командир республиканской батареи оказался все-таки прав: мятежники за время обеда так и не притронулись к своим пушкам.
{28}
13.11.36 Михаил Кольцов
Как и в предыдущие дни, в два часа пополудни над городом появились «юнкерсы» в сопровождении своих истребителей. Миаха покраснел от злости, он ударил пухлым своим кулаком по обеденному столу:
– Когда они завтракают?! И сами не едят, и другим не дают. Прошу вас не вставать из-за стола.
Впрочем, он сам соблазнился и побежал с салфеткой на шее на балкон, когда ему сказали, что бой идет над самым зданием военного министерства.
«Юнкерсы» уже сбежали, «курносые» атаковали «хейнкелей». На крутых виражах и пике они мелькали раскрашенными, как у бабочек, крыльями, – это повергало в восторг публику, жадно наблюдавшую с земли.
Затем бой отнесло за угол дома, и ничего не стало видно. Все уселись продолжать завтрак. Еще через пять минут сообщили по телефону, что несколько машин сбито, один из пилотов спрыгнул на парашюте и взят в плен. Миаха приказал привезти его сюда, в штаб. Минут через десять послышался невероятный шум и вопль толпы. С балкона видно было, как к ограде медленно подъехал автомобиль, облепленный со всех сторон и даже сверху людьми. Дверца раскрылась, изнутри вытащили кого-то, поволокли через сад министерства.
Куча сопровождающих и зевак хлынула внутрь здания. Я вышел на лестницу – по ее широким ступеням наполовину вели, наполовину несли вверх атлетического молодого человека с гримасой боли на лице; он обхватил руками живот, как если бы у него лопнул пояс и падали брюки.
Это вовсе не был фашистский летчик. Это был – я узнал его с первого взгляда – советский летчик Сергей Федорович Тархов, командир эскадрильи истребителей И-16.
Почему его так волокут? Он очень бледен, спотыкается, плохо видит перед собой. В большой комнате, где работает Рохо со своими помощниками, он рушится на диван, чуть не сломав его могучим телом.
– Сережа, это ты прыгнул с парашютом? Тебя атаковали?
Он тяжело дышит.
– Дай мне воды. У меня прострелен живот.
– Сережа!
– Это сумасшедший дом какой-то! Почему они стреляют в своих? Дай мне воды тотчас же! У меня огонь в животе. Много пуль в кишках. Дай воды, и тогда я расскажу, как было.
– Сережа, не надо рассказывать. Нельзя пить, если рана в животе. Сейчас тебя положат, отвезут в «Палас».
– Скорее в госпиталь и немножко воды! Надо потушить огонь от пуль. Не теряйся, пожалуйста, из виду! Шесть штук гадов на меня напали. Я пошел под облака, и вдруг сразу шесть «хейнкелей» – со всех сторон, все на меня! Очень прошу, не теряйся из виду!
– Я не потеряюсь из виду. Я с тобой поеду в «Палас». Это госпиталь. Я там же и живу, рядом с тобой. Сережа, милый, не разговаривай, я тебе запрещаю!
Вся комната слушает в ужасе. Зачем раненого республиканского летчика притащили сюда, почему не в лазарет? Начинается галдеж, все взаимно обвиняют друг друга. Все сходятся на том, что во всем виноват приказ Миахи. Велено было им привезти летчика сюда, вот и привезли. Но приказ был основан на ложной информации, на том, что с парашютом сбросился летчик-фашист. Нужно ли было идиотски или провокационно выполнять приказ, основанный на ложной информации? Все сходятся на том, что исполнять не надо было. Никто не зовет санитаров и носилки. Все сходятся на том, что надо позвать санитара и носилки. Тархов начинает сползать с дивана, веки его опускаются. Наконец, вот санитары и носилки. Тархова берут, весьма неловко, с дивана, кладут на носилки, кладут вкось. Одного санитара толкнули, он выпустил ручку, Тархов грохнулся на пол. Все кричат от ужаса и боли, один только Сережа не кричит. Его опять берут, опять кладут, мы спускаемся к санитарной карете, едем до «Паласа» только три минуты. Его несут в операционную. Здесь толчея, курят, груды грязной ваты, неубранные пальцы рук, ступни ног и еще какая-то непонятная часть тела, похожая на колено, лежат в большом тазу, дожидаясь санитарки; на стене висит плакат с танцующей парой: «Проводите лето в Сантандере». Сергея кладут на операционный стол, он вдруг кажется ребенком, а ведь такой большой…
Через два часа доктор Гомес Улья пришел сказать, что Тархов уже оперирован, лежит рядом в комнате, зовет и нервничает. Из кишечника извлечены четыре пули, еще две оставлены во внутренних органах, извлекать их очень опасно. Все дело в том, чтобы раненый был совершенно неподвижен, иначе начнется перитонит – и тогда все кончено. У летчика, видимо, богатырское здоровье, у него есть шансы спастись, если только будет обеспечена полная неподвижность его в постели. Но он очень беспокоен. Он нервничает и зовет. Он хочет что-то объяснить.
Я пошел к Сереже. Он и в самом деле очень нервничает. Прежде всего я должен взять листок бумаги и записать его рапорт.
– Понимаешь, документа нет. Надо составить документ…
– Какой тебе документ? Ты дрался, мужественно, героически дрался, ранен, поправляешься – о документах другие позаботятся.
– Нельзя без документа. В аэродромном журнале записано, когда мы вылетали по тревоге. Пожалуйста, эту дату возьми и подставь в рапорт. Я-то помню точно – пятнадцать сорок восемь, – но ты сверь с журналом, ведь это же документ!
– Ты хочешь сказать: тринадцать сорок восемь? В пятнадцать сорок восемь тебя уже оперировали…
– Постой, постой! Я ведь помню точно – вчера, в пятнадцать сорок восемь, в пятнадцать…
– Не вчера, а сегодня, – ведь бой-то был сегодня, три часа тому назад!
Он встревожился:
– Сегодня?! Разве сегодня?! Что же это у меня память отшибло? Ты шутишь! Разве сегодня был бой? Какое же сегодня число?
– Сегодня… Ты был под наркозом. Все это неважно. Главное – не двигаться, поправляться.