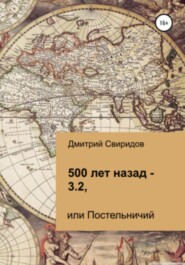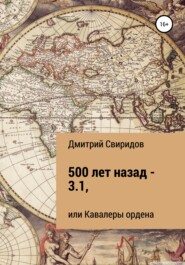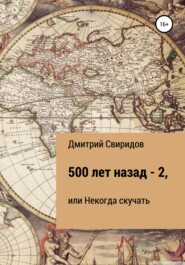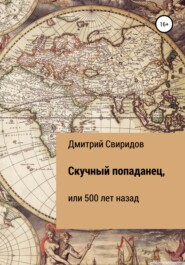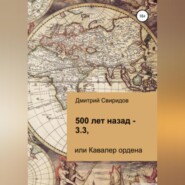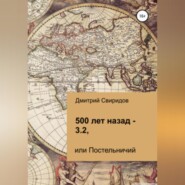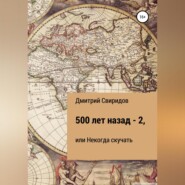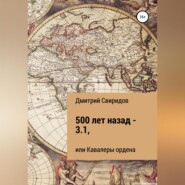По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
500 лет назад – 3.3, или Кавалер ордена
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он соскочил с коня и тоже поспешил навстречу Семену (почему-то мысль доехать не пришла к нему в голову). На подходе стало видно, что тот улыбается, и князь понял, что и у него на лице расползается широкая улыбка… Они обнялись и стали хлопать друг друга по плечам (князь вовремя вспомнил про руку друга, и не усердствовал, но Семен сейчас, похоже, ничего не замечал).
–Все вышло! – радовался он, громковато (ну да, у них тут и пальба была, и ракеты), но от души – и у засеки сгуртовались они, и под пушки подставились, и огненными стрелами мы их здорово добили! И, похоже, рыцари под пушки Гридиных ребят там тоже подставились.
–Даже у нас слышно было, как там заорали – согласился князь – и кони…
–Кони, да – Семен сбавил улыбку и оглянулся вокруг.
Немного времени прошло, но все как-то упорядочивалось. Возле ледяной засеки устроили перевязочный пункт, где в пять пар рук помогали народу Ефим, Михайла, старче и еще двое, с подготовкой санитаров. Бойцы зачищали все пространство между засеками, уже собирали тела своих (слава богу, оказалось их немного), и сейчас примерялись к орденцам. Группу Степана уже было не видно. Выскакивал из лесу Гридя, увидел их, перемахнулся рукой – мол, все в порядке – и убежал обратно, похоже, вылавливать и добивать тех, кто попытается уйти лесом.
Князь и Семен, как-то одновременно отойдя после схватки и видя, что сейчас командовать не нужно, решили проверить, что там, с той стороны засеки – поляну совершенно не было видно за ней, сильно укрепленной за последнее время. Они, забравшись на коней (Семену подвели его, до того привязанного где-то в безопасном месте), проехали по проходу между деревьями за линию укрепления, отметив мельком, что орденцы сперва так и не успели найти замаскированный проезд, а потом им стало, похоже, не до того, и выехали из леса уже с обратной стороны засеки.
Картина была… непривычна. Возле того места, где они выехали, до сих пор воняло порохом и кровью: оба заряда с деревьев пришлись на уровне лошадиных спин примерно (или человеческих голов, нацеливали их именно так), и больше дроба досталось коням, а не людям, так что крови здесь было налито прилично. Лежало с десяток лошадиных туш, и примерно десятка три тел орденцев. Приглядевшись, князь с Семеном поняли, что кроме попавших под удар импровизированных «пушек», есть тут и попавшие под дальний огонь из пищалей, не ожидавшие, что оружие достанет их на недоступном вроде бы расстоянии. Но были среди убитых и явные всадники, судя по экипировке, и даже рыцари, по крайней мере, снаряженные очень хорошо бойцы, трое или четверо. На самой поляне (они двинулись по дороге к ее дальнему краю, где снова виднелась какая-то свалка) тел почти не было, разве что с того края, что был ближе к занесенной снегом болотистой промоине, кое-где виднелись, похоже, из числа не успевших уйти от обстрела с замаскированной позиции за этой самой промоиной. По дороге через поляну тел тоже почти не было, трое или четверо орденцев лежало здесь всего, то ли подраненных в лесу и возле засеки, то ли попавших под случайные выстрелы. Живых тут не оставили ранее прошедшие бойцы, и они, подстегнув лошадей, более быстрым шагом доехали до того места, куда, похоже, попали ракеты боковых засад. Здесь тоже лежали павшие кони, много, десятка два, но не в одном месте, а как-то… растянуто, и люди, но крови было гораздо меньше – дроба-то в ракетах не было… Часть и людей, и коней, явно была затоптана в свалке. А на телах мертвых орденцев были заметны следы, похоже, от ножа. Они сперва подумали, что это тоже та группа постаралась, что на зачистку со Степаном ускакала, но владелец ножа нашелся тут же (как и сам нож). Он, как стало видно вблизи, вытирал сейчас снегом лицо своего мертвого товарища, полулежащего на крупе убитой лошади (а нож лежал тут же, сбоку).
Здесь было самое узкое место, после которого, собственно, пустошь вдоль дороги и начинала расширяться, становясь поляной. Лес был только слева, на приличном отдалении, а пока еще голые кусты подходили к дороге гораздо ближе (причем с обеих сторон), и в этих кустах еще до начала схватки сидели отправленные Гридей разведчики. Они узнавались по белым накидкам, правда, у живого она сейчас была сильно испачкана спереди кровью, а вот у второго… у второго на теле не было живого места. И Семен, и князь имели опыт, и поняли, что попал он под копыта, вот только еще живым, или уже мертвым? Это было непонятно… Но – второй разведчик обернулся на звук копыт по дороге, и поднялся, отложив в сторону очередной кровавый комок снега. Когда всадники спешились, стало видно, что на лице его среди брызг крови прочерчены две дорожки, от слез, но сейчас голос был уже спокоен:
–Княже, воевода… а мы вот тут… сидели в засаде, значит… Я и… – он неловко махнул рукой в сторону тела товарища.
–Это… Данил?… – вглядевшись, первым узнал того Семен.
–Данька, ага.
–А… как все вышло? – спросил князь, осматриваясь.
–Мы сперва сидели поодаль, в лесу, Гридя сказал – присмотрите там, на случай, если они побегут. Как все на поляну вышли, они сперва недалеко от нас стояли, потом пешцы вперед ушли, а вскоре и… рыцари эти и иные конные потянулись. Мы тогда поближе подобрались… Потом, как… началось все, ждали, как велено. Потом грохнуло, от нас видно было – попало хорошо, посшибало многих… Ну, там сколько-то еще вроде бились, да вы лучше знаете, наверно… А после, как они назад подались, Данька мне и говорит: давай бомбу! Мы-то с самострелами, но у нас по одной с собой было, как положено, значит – пояснил он князю, но тот и сам помнил, вместе с Гридей прикидывали, что у кого из бойцов с собой должно быть…
–Ну, я даю, а он фитиль в зубы, и к дороге… Я-то не сообразил, а он-то пошустрее у нас… был… – на лице бойца снова что-то блеснуло.
–А дальше-то что? – поторопил Семен, все еще не понимая.
–Конные их – продолжил отвечать боец – как-то в кучку собрались, и, значит, потихоньку так обратно подались. Медленным шагом почему-то… Тут слышу, свист, нашим с боков выдвигаться, и похоже это уже второй раз было – чего Данька-то раньше дернулся? А он… в обе руки по бомбе… и посредь дороги встал прямо… Они, как ближе подъехали, увидали его, в белом-то не сразу разглядишь, хоть и грязь уже… а он тогда… один, другой запал к фитилю, к ним подался, и бомбы лошадям под ноги – на!… Тут я тоже стал выбираться, из кустов-то (видно было глубокую тропку в сыром снегу в эти самые кусты).Да только не успел. Бомбы грохнули, они встали, кто-то свалился даже… дым, кони кричат, задние напирают, в кучу сбились… и тут с боков стрелы огненные пустили наши, попало прямо туда, в кучу эту, сзади. Там орут, а те, первые, рванули прямо по дороге, мимо меня, своих же стоптали, кто упал… и Даньку там…
Все снова перевели взгляд на парня. Действительно, Данька – на молодом еще лице (сейчас стало заметно, что, кроме переломанного тела, и одна скула его была сломана, но… уже не кровила), виднелись редкие усы… а бороды не было совсем. Вспомнил этого шустрого парня и князь – борода у того пока росла плохо, и он ее сбривал. Пока они молчали, боец подобрал нож, воткнул его в ножны под накидкой и сказал:
–Ну, а тут я вот… раз не успел, так пошел этим, которые попадали… контроль делать (слово, как и «зачистка», прижилось в отряде от старче)… Лошадок тоже, побитые которые были. Орденцы, пешие которые, и не совались сюда, кругом вроде шли, а потом из лесу Степан, значит, со своими, ну, и я вот…
Князь взглянул на эту картину теперь по-новому. Выходило, что Данька этот задержал отступающих рыцарей и прочих всадников, они собрались в кучу, дав возможность двумя ракетами эту кучу разнести, правда, только сзади, и все лежащие здесь тела – результат действий выскочившего на дорогу парня с двумя бомбами…
–Семен – сказал князь, и сам не узнал своего голоса – у тебя… знак с собой?
Тот сперва не понял, но потом догадался, и полез под накидку. Ему было неудобно, одной рукой, и князь подошел, помог отстегнуть, а после со знаком в руке повернулся к бойцу. Тот смотрел удивленно, но князь шагнул рядом, присел и приколол орденский знак к небольшому оставшемуся белым куску на накидке Даньки.
–Давай, возьмем… вон, потник, что ли, с коня. Надо его отнести к нашим… – сказал он, поднимаясь.
Так они и ушли назад, к засеке. Впереди на попоне князь с бойцом несли, иногда все-таки протаскивая волоком, Даньку, сзади однорукий Семен вел в поводу коней. Перекинуть тело на круп никому почему-то в голову не пришло. Их увидели свои, перешедшие на эту сторону засеки, когда они уже почти добрались до укрепления. Кто-то свистнул, бойцы подскочили, перехватили и уже вчетвером донесли тело товарища через проход и до ледяной засеки, положив Даньку рядом с другими погибшими сегодня воинами их Ордена. Народ подходил поближе, увидав такую неожиданную процессию, и князь рассказал, все еще каким-то чужим голосом, что разведчик сделал, и чем это для ливонцев нынче обернулось. Из леса постепенно возвращались бойцы Гриди, вышел и он сам, после вернулся Степан со своими, и им всем рассказывали про Даньку…
…Его так потом и схоронили, с золотым орденским знаком, первого, награжденного посмертно. Правда, знак ему сделали свой – Ефим вел запись по номерам. А на табличке в церкви, с надписью «Даниил из Пскова», Михайла, достав где-то красной и желтой краски, нарисовал орден. Получилось не очень, но понять можно было – желтое на красном…
Они потеряли в этот день чуть больше десяти человек (одиннадцать, если точнее, и еще один на следующий день умер – тяжелое ранение пулей в живот, и потеря крови, даже старче, увидев, только головой покачал). Раненых было много, но почти все – легко, в серьезной рукопашной-то, считай, только ребята Черного сходились, а они все давно были в хорошей броне, со щитами. Было несколько огнестрельных ран – орденские пищальщики, или аркебузиры, как их там, дело свое тоже знали, а в основном колотое да резаное.
Потери Ливонского ордена сосчитать так и не смогли. Собирали тела в разных местах, несколько отдельных групп, увозили нынче в другой овражек – до того, первого, через загородку добираться было неудобно, да и далеко от дороги по остаткам раскисшего снега увозить – тоже, так что разведчики указали другую промоину. Что надо считать, никто сразу после боя сказать бойцам не сообразил, а как стали потом прикидывать (и по доспехам собранным тоже) – выходило всяко больше пяти десятков. А еще были те, кого в лесу подстрелили, да не нашли, а еще – те, которых Степан со своими по дороге догнал (он про полтора десятка говорил, может, и приврал)… А если еще рыцарей и всадников считать (тех выходило около трех десятков, все-таки те два места – возле засеки под пушечным ударом и в горловине поляны, под ракетным – собрали свою кровавую дань именно с всадников)… Старец подходил к князю, сказать, что после весны надо будет их как-то перезахоронить – и по обычаю, и, мол, болезнь плохая может от тел пойти, так и решили, если живы будут. Но вообще-то оптимизма у бойцов было полно – новая победа, хоть и с дорогой ценой нынче. Ополченцы (и те, что только от тевтонцев вернулись, и те, что на эту битву князем набраны были) хоть и понесли потери больше всех других десятков – увидали, как побеждать тех самых орденцев, что их и предков их веками в рабстве держали, и теперь уже трудненько было бы заставить их к старым порядкам вернуться…
Седов заметил потом, что, пожалуй, в чем-то правы были тогда князь с Семеном – если оружие крестьянам давать, результат может быть… неоднозначным. Но, вроде как, пока было наоборот – князя славили, и после возвращения в замок (и тризны по погибшим) расходиться они захотели не все. Но изведшийся от их ожидания Федор напомнил, что скоро пахота, и землю делить пора, и мужики все-таки разошлись, правда, дождавшись от князя обещания, что если нужда будет – он снова их призовет. Князь совершенно не лукавил – неизвестно, как там шли дела у московских войск, но, если выйдет у них, не за горами Ревель, Хапсал, Пернов, Феллин… Ну, а дальше уже даже и князь не загадывал. Единственное, чего можно было не опасаться, так это скорого повторного наступления орденцев с юга – с некоторыми из захваченных в этой битве бойцов Ордена… переговорили, перед их… безвременной кончиной, и про подготовку их, и про руководство самого феллинского кастеляна узнали. Но среди погибших его не нашлось.
А тогда, возле маленькой, почти игрушечной ледяной крепостцы, Николай Федорович ничего такого не думал. Ну да, совсем рядом (ну, не совсем все же, но в пределах видимости) бойцы добивали орденцев, из тех балаганов, что он видел в леске, изредка доносились крики (Гридя по-быстрому разбирался с пленными), но для него это все проходило как-то… картинкой. Мозг был занят важным делом – они обрабатывали раны (не зря издалека еще виднелось красное, такое заметное на снегу). Кроме одного, который был явно безнадежен – пуля в живот, да через овчину, кольчугу и что там еще под ней – остальные были гораздо легче (хотя и была, например, рука с перебитой костью), но работы по промывке, намазке, бинтованию – хватило на всех пятерых, да еще народ помогал. Они почти закончили, когда из-за засеки принесли того молодого разведчика, и князь не своим, сухим каким-то, как будут говорить – протокольным, голосом рассказал про его подвиг.
Вот в этот момент у Седова… нахлынуло как-то, из воспоминаний, снова про войны и погибших, даже в груди закололо, и он отошел в сторонку, до чистого снега, без грязи и копоти, растереть лицо… Этого никто не заметил, и они продолжили свое дело. День все-таки прилично удлинился, и все нужное сделано, собрано (а тела увезены) было еще до сумерек, но, как оказалось, князь решил, что обратно они поедут завтра (хотя гонца в замок отправили сегодня, конечно). Переночевали, на следующее утро разобрались с ранеными – кого с собой, кого пока оставить, Степан со своими еще затемно уехал на дорогу – проверить, не вылезет ли кто из орденцев, что вчера по лесу да кустам прятались, на обратный путь. А остальные, кроме оставляемого у засеки усиленного наряда дневальных, потихоньку двинулись в Озерск.
И в деревне, и в замке встречали их радостными криками, Федор лез обниматься, Милана всплакнула (да и у большинства из замковой обслуги облегчение на лицах перемешивалось со слезами), ну, а дальше пару дней в основном были заботы с ранеными, похороны своих, тризна, награждение орденскими знаками. Один из тех двух разведчиков, что «пушки» на деревьях запаливали, из леска так и не вышел – нарвался, видать, на матерого орденского бойца, или двоих сразу… Второму дали малый знак, в серебре. Такой же знак дали бойцу Черного, что первым выскочил через ледяную засеку да врубился в наступавших орденцев, и… тому напарнику Даньки. Он единственный отнекивался было, но князь сказал: «это тебе и за себя, и за него». А старче, услыхав это, негромко произнес «теперь придется жить и за себя, и за того парня», и еще непонятно «с гранатой под танк», и фразы эти долго потом обсуждали бойцы, промеж своих…
На третий день после возвращения вечером князь собрал всех в башне. К тому времени и Петра вернули, так что не было из руководства только Степана, что остался пока на тракте сам – приехавший оттуда гонец сказал, что кое-кого они еще на дороге поймали, так что задержатся. А из той деревни, где орденцы дольше всего стояли, начали они уезжать назад, частями, по словам разведчиков, не дожидаясь, пока все соберутся да их раненые поправятся. Атаковать их сейчас князь не собирался – не те силы были, хотя Степан еще возле засеки предлагал, но было это сгоряча, и говорил он тогда, не подумав, в чем на следующее же утро и признался сам. Князь подвел итоги битвы, в конце сообщив всем, что узнал Гридя от орденцев. Было окончательно подтверждено, что знают о них ливонцы уже до самого магистра, и имел феллинский кастелян особую грамоту от того, и соседей предупреждал, и дальних гонцов рассылал, но – собранные им войска, где-то треть от которых они выбили (тут, конечно, не обошлось без спора, больше-меньше, но князь его пресек), с задачей не справились. Теперь от Ордена ждать можно пока только мелких пакостей, но мальчишки, что понесут по деревням весть об их победе (тут уж князю подсказывать не пришлось), напомнят и о награде за орденских лазутчиков, так что в боях у них, пожалуй, перерыв. Народ немного обсудил, сколько времени тут будет распутица, но решил, что увидят сами, а гадать сейчас бесполезно.
–Нам же ныне – сказал князь в конце – надо заняться делом иным, да тоже важным, хоть и надеюсь я, что не будет оно так кроваво… (все же потеря своих бойцов, хоть и при явной победе, сказалась на руководстве, просто не выставляли они это напоказ). Пора заняться нам Ревелем…
И Петр, взяв слово, рассказал уже подробно, что там у Пимена с Торгашом, да что он сам узнал, в Ревель съездив…
…Пимен давно не чувствовал себя так легко, как в то зимнее утро, когда они с обозом выходили из Пскова, направляясь в Ливонию, к князю. Исчезли те тоска и тяжесть на душе, что много лет сопровождали его, ежедневно, ежечасно, еще с тех времен, когда семья его… (он запретил себе об том думать). Он никогда особо не показывал этого, занимаясь повседневными заботами, а их у второго кормщика всегда много, как бы не больше, чем у первого, но народ, конечно, понимал это, особенно Дан. Побратим, хоть и выглядел этаким… ушкуйником, в общем, был умным, быстро соображающим в опасных ситуациях, хоть и не хватало ему, на взгляд Пимена, иногда времени (и желания) подумать на пару шагов дальше. Они потому и были вместе, что хорошо дополняли друг друга, пройдя за много лет разные переделки (и сумев заработать в них себе на хорошую жизнь, чего уж).
Но… побратим понял, когда Пимен рассказал ему о том, что уйдет к князю. Прозвучало «пока», но, пожалуй, после рассказов старца и задумок князя оба понимали, что и весной, с новой навигацией, уже не станет все как было, по-старому. Так что, когда Ждан с Твердом сообщили о выходе отряда в Ливонию, Пимен отдал своим распоряжения по хозяйству, собрал самое нужное в пару небольших тюков, и ушел, с легкой душой и мысленно улыбаясь всю дорогу. Путь нельзя было назвать трудным – зима, но они особо не торопились, дорога была известна, Ждан хорошо подготовился, так что и до Гдова, и в саму Ливонию они прошли спокойно. В новых землях князя (и всей их компании) Пимен сперва подумал, что досталась тем местность бедная, но в замке мнение свое немного переменил, поняв, что заходили они как раз с таких мест, где и земли были похуже, и людей было мало, и… пройти малому отряду с боями легче, что, собственно, князь и проделал.
Ну, а потом, после того, как он освоился в замке и узнал подробнее о пути отряда и его успехах, а также о том, как они тут себя поставили и как собираются жизнь устраивать, предложили ему дело. Нет, даже Дело. С одной стороны, надо было ему вроде бы плевое дело сделать – снять дом в Ревеле, будучи как бы доверенным приказчиком богатого купца псковского (собственно, Ждан с Твердом, если что, такими купцами и были), да от имени того же купца начать знакомства заводить, да выяснять всякое-разное, что купцу в торговле полезным быть может – от пошлин портовых, до цен на товары, на рынке и оптовых. Знакомства же свести с иными купцами, да с разными городскими людьми, что очень полезны бывают, хоть и не на виду, вроде чиновников ратушных, портовых да квартальных, и все такое прочее. Особенность же состояла в том, что все это было поверху, а на деле он должен был стать «своим среди чужих», как сказал старче. Именно в беседах с ним, и с Петром еще, открылись Пимену некоторые вещи, о которых он раньше самое смутное представление имел, или вообще не догадывался.
Все это, да еще что Торгаш среди своего круга, пониже статусом, должен был по старым связям вызнать, они должны были проделать для того, чтобы узнать, кто на самом деле всем в городе-то заправляет, и с этим человеком (или людьми) предстояли потом совсем другие разговоры… Пока, предварительно, считалось, что это кто-то из ганзейских купцов, в Ревеле постоянно проживающих, но это надо было уточнить. Впрочем, и Петр, и Федор, и сам князь от Пимена не скрывали – брать под свою руку все дела в Ревеле им хоть как надо было, либо уж так прикормить того, кто там сейчас главный, чтобы что нужно было им – он делал сам. И сложность здесь была не в том даже, чтобы в городе новые порядки установить – нет, если там нету того, что старче назвал «беспределом», а жизнь в городе худо-бедно налажена (а так, скорее всего, и было, судя по тому, что им всем сейчас о Ревеле было известно), то в самом городе особо порядки-то менять и не надо, но вот все земли вокруг должны быть очищены от орденцев, и без холопства… Вот тут отношения между горожанами и сельчанами (а это – основа хозяйства, кто понимает) должны будут поменяться так, что, пожалуй, довольно сложно может оно обернуться для города…
Но – это было второе, если даже не третье, и о том договорились уточнять уже после того, как они с Торгашом заедут, устроятся да первые знакомства заведут. Для того дадена им была приличная мошна, и серебром, и золотом даже, а кроме того – переписал Ефим списки с заемных писем, что в руки им попали в замке этом, а князь показал иные ценности, на всякий случай – каменья, янтарь да перстни и ожерелья, цены, как понимал Пимен, такой немалой, что, пожалуй, и впрямь можно при правильном подходе иного большого человека на свою сторону склонить. Ну, и перед самым отъездом был еще один разговор… Там Петр кое о каких ухватках «ночных торговцев» поведал, да самые простые примеры – как они облапошивают купцов-раззяв и прочих простофиль и как от того уберечься. Иное из этого Пимен и раньше знал, помотался по городам кормщиком-то, иное – впервые услышал. Ну, и старче добавил, но уже не об этом, а… об отношении к русским. И с этим тоже Пимену приходилось сталкиваться, в северных городах в основном, встречаясь с иноземными купцами с Балтики и из более далеких мест. Но то, что оно там веками так будет устроено, и что их все это время дикарями, татарами, лишь за Европой все повторяющими считать будут – для него внове было.
Старче, хоть и оговаривал, что ошибаться может, дал с того осторожных советов несколько – как в доверие в Ревеле купцам и иным важным людям войти. Простых, советов-то, но Пимен решил, что, пожалуй, дело нужное, да и Петр одобрил, и князь, хоть и морщился, слова против не сказал… Одеться по местной моде, из приличных, дорогих тканей. В разговорах не то, чтобы все русское хаять (можно, но в удобных случая только), но лучше хвалить заграничное, европейское, да то, как у них тут все устроено… О том, кстати, и про купца своего говорить – хочет, мол, с настоящими товарами дело иметь, с которых прибыля тоже хорошие, да в лучших местах торговлю открывать, надоели эти лапти… Все это запомнил Пимен, и уехали они с Торгашом на паре смирных лошадок, с двумя такими же вьючными.
Дороги им обсказали, и к Ревелю выехали они с восхода, вроде как от Нарвы. Торгаш и сам тут неплохо ориентировался, и постоялый двор, куда он их привел, оказался из дорогих (а вот комнаты они заняли поскромнее). И хозяину, и пришедшей через день страже Пимен рассказал, как и должен был – что доверенный приказчик, что дом нужен, да по складам что, а самого купца летом надо ждать. Десятнику стражи, кроме обычного вспомоществования, была выделена еще некая сумма, тот пару таких домов сразу и подсказал, и расстались они довольные друг другом. Правильный размер суммы по местным меркам Торгаш подсказал, конечно. И хозяин постоялого двора, оценив манеры гостя (и наличие у него серебра), тоже в стороне не остался, и еще нескольких людей упомянул, кто помочь может с домами, но Пимен взял паузу, и первым делом прошелся по лавкам готового платья, да после портного навестил. Не самого дорогого, но приличного (Ревель был большим городом, и мастеров таких – портных, сапожников, всяких прочих – тут было довольно много, на разный кошелек). Правда, все же на свой вкус последнюю местную моду немного переиначил, вспомнив к случаю, какие лица были у рязанцев, когда они увидели его во Пскове после кожи и шерсти на лодье – в привычном ему, но богатом домашнем…
Несколько дней, пока он закупался и осматривался, в Ревеле как раз шли разбирательства после поджогов. Правда, тогда утром, когда пошли первые слухи о поджогах, и пожаров тех уже не было видно (похоже, или мало зажгли, или быстро потушили), на улицах никаких особых изменений не случилось, да они почти и не выходили первые пару дней с постоялого двора, вроде как отдыхая с дальней дороги. А к орденской крепости, чья башня была видна из любой точки города, он потом и сам не совался, от греха. Слухи быстро затихли (так, впрочем, ясности и не добавив – что это было), и Пимен впервые вышел в местный высший свет. Начал он с посещения трех домов, что ему подсказали, точнее, со знакомства с их хозяевами. Все они были местными торговцами, и, разумеется, с каждым он проговаривал его «легенду», как старец говорил. Его жизненный опыт, новая местная одежда (не из дешевых), манеры, знание языка и некоторых местных обычаев (а тут снова Торгашу спасибо) – сказались, и, похоже, он произвел хорошее впечатление. Дома, которые ему показывали, были в разных частях города, но сам-то он был небольшим, и уже на второй встрече, на следующий день, один из хозяев предложил ему подойти вечером в одну из таверн, посидеть с приятными людьми. Разумеется, Пимен согласился.
Пожалуй, это даже была уже не таверна, а… ресторация, вроде так их называли. Даже в общем зале было чисто и прилично, и на столах были скатерти(!). Тут же был и особый уголок, как ему подсказали новые знакомые, где иногда играют музыканты (!!). А еще здесь был второй поверх, за резными столбиками легкого ограждения, с искусной отделкой стенных панелей и даже гобеленами на стенах. Вроде как были еще и отдельные покои, где-то в глубине, но туда он пока не попал, а уселся со своими новыми знакомыми внизу. И кухня, и пиво здесь были отменными, дав ему первый повод, пока невинный, похвалить местное… Ну, а там и разговор завязался… Надо сказать, что в портовом, но зимнем городе, где новых людей практически нет, а старые все давно знакомы, его появление вызвало обоснованный интерес, о чем ему тоже в замке сказали сразу. Сперва он несколько осторожничал в разговоре, но потом, видя, что тут все же не орденцы вынюхивают, похоже, а на самом деле – местные интересуются, позволил себе быть естественнее. Ну, и советы старца вспомнил тоже, ага…
…Где-то дней за десять он перезнакомился практически со всеми, с кем имело смысл, и прошел пару проверок. Или совпало просто?… Одному из торговцев понадобилось узнать, с какого времени и каким маршрутом весной удобнее будет добираться до одного города на Волге. У него оказался договор на доставку туда неких товаров, еще с прошлого года. Почти весь вечер они с Пименом говорили об этом, не торопясь, под пиво (Пимен разобрался с местными сортами, и определился, какое ему больше нравится). Было уточнено все, что только смогли оба вспомнить – начиная с осадки и размеров корабля торговца, сам маршрут, разумеется, и заканчивая товарами, которые в то время можно будет в том городе купить по хорошим ценам, чтобы обратно плыть не пустому. С перерывами, обсуждением, под приличную закуску, с замечаниями от нескольких соседей (не влезающих в разговор, впрочем, а вполне культурно дожидающихся паузы), снятием некоторых противоречий – на слова Пимена нашлись возражения, пришлось уточнять… По итогу кое-что записал себе собеседник, спросив чернил и бумаги (да, и это в заведении было), но кое-что записал и Пимен (это касалось примерных цен на несколько товаров из русских княжеств в Ревеле). А через пару дней после этого еще один торговец, ранее ему не представленный, был представлен уже новыми знакомыми и поинтересовался, что Пимену известно о путях на дальний юг. Тут он, хоть и выдал вполне приличный кусок информации, кое-что придержал, хотя и сделал несколько намеков, что, мол, готов и больше помочь хорошему человеку, отчего нет? Но – на других условиях… Еще был вопрос, вскользь, не было ли в Пскове (он не скрывал, откуда он, и вообще всю свою «легенду» спокойно рассказывал) по осени заметно подготовки к каким военным действиям. Ну, тут уж он (опять же, с полным взаимопониманием от собеседника) на примере пяти-шести товаров, цен на них и предложений на торгах, доказал, что в ближайшее время псковские войска точно воевать не собираются, то есть, по осени не собирались. И собеседники с ним согласились, купцы, они иногда раньше всех узнают о будущей войне, по своим приметам, кто понимает…
Разговоры эти велись вечерами, днями же он неспешно, но обстоятельно обходил склады, кое-что записывал, разговаривал с людьми, в сопровождении уже своей охраны, но, впрочем, не заходя в бедняцкие части города (там зато пропадал Торгаш). А вот в порт он ходил даже с удовольствием, разглядывая зимующие нынче тут большие корабли и лодьи, чуть больше их с Даном. Да, и дом-то они сняли, конечно! Ближе к восточным воротам, чем к порту, без склада при нем, но с конюшней, правда, не близко к ратуше, центральной площади и крепости. Другие варианты были после тщательного осмотра вежливо отклонены, зато у одного из других владельцев нашлась знакомая кухарка, которая – после пробы блюд – была признана вполне годной и тоже нанята. Он прикупил в это время кое-что для дома, а после, когда все было обставлено, пару раз пригласил нескольких новых знакомцев к себе домой, оценить работу кухарки, так сказать. Дом был в два поверха, с крошечным внутренним двором между самим домом и конюшней с другими службами, с приличной мебелью, как раз для купца, что постоянно в разъездах, но хочет иметь комфортное жилье в большом городе, где и отдохнуть можно, и с друзьями посидеть. Был он далековато от центра, зато – с двором. Застройка в Ревеле ближе к ратуше и орденской крепости была хоть и сплошь каменная, но гораздо теснее, а этот дом каменным имел только первый поверх, второй был из бревен (что Пимену, надо сказать, привычнее было).
В походах его пришлось делать перерыв, когда произошла схватка орденцев на перекрестке тракта. Уход отряда их он не видел, а вот как проскакали бешено двое через весь город к крепости – даже наблюдал сам, издалека. Ну, а что те двое из целых двух десятков живы остались, и как там все дело было – он узнал уже из слухов, постоянно доставляемых Торгашом (надо сказать, и кухарка новая в этом смысле полезна оказалась). Правда, как все на деле там было, они не узнали, и беспокоились о своих, но Торгаш пообещал, что скоро вышлет одного ловкого парня на полдень, к Озерску (ну, не к замку, конечно, до их заставы на тракте), и тот сможет сходить, передать вести от них и вернуться. Пока это было опасно – кроме стражи, по городу пустили еще и орденский дозор, и вроде как и возле города их конные тоже ездили.
5
А седмицы через две, когда в городе снова все как-то улеглось, и затихли и эти слухи, он таки был представлен обоим из двух ганзейских купцов, постоянно живущих в городе. Для того он даже приглашен был на второй поверх той самой ресторации, за ограждение из резных перил, где у них, оказывается, были свои излюбленные столы. Надо сказать, что Торгаш, тоже поднявший все старые связи к этому времени, уже дал ему расклад и по ратуше, и по мелким чиновникам в ней, и сколько берет капитан внутренней стражи с купцов – просто так, за дружбу, и за конкретные услуги, и что в порту… Те пара человек, что они в охрану уже наняли, были из старых, проверенных, и еще людей Торгаш набирал, не торопясь. Но самое главное – они узнали, кто на самом деле управляет городом. И подвоха тут не оказалось: бургомистрами были эти самые ганзейские купцы, в их руках Ревель и был. Вообще, в городском магистрате было нынче два бургомистра и девять выборных советников, или ратманов. Между ними были разделены обязанности казначея, хранителя печати, председателя суда и другие. Особым отличием было то, что защита города была не на ополчении и наемных отрядах (одним из которых, постоянным и особым, была внутренняя стража), как в других вольных городах, а на Ливонском ордене, и от него в том магистрате сидел представителем рыцарь. Но вот стать членом магистрата можно было только при согласии (негласно, разумеется, так-то должности были вроде как выборные) одного из бургомистров. Согласие это, по слухам, стоило очень, очень много денег… Сами бургомистры имели патенты Ганзы, один был местным, второй тоже давно тут жил, и весь торг, который велся здесь, в Ревеле, был давно между ними поделен. Крупный, разумеется, как сказали бы в 21 веке – оптовый и фьючерсный, под будущие урожаи.
Так вот, на той первой встрече с ганзейцами Пимен, вполне обвыкшийся к этому времени в Ревеле, впервые почувствовал в груди некоторый холодок… опаски. Нет, он с самого начала держал в голове, что дело его такое, и Петр с князем о том же говорили, но… пока он был самим собой, Пименом, кормщиком из Пскова, особым приказчиком торговцев Ждана с Твердом, все было как-то просто. Даже когда орденцы ему в городе встречались… А сейчас ему надо было становиться уже прознатчиком и доверенным лицом пресвитера Ордена Красного знамени Иоанна… Но это все было в мыслях. На деле же он, после представления бургомистрам, был расспрошен (не приглашая его за стол, конечно, да они и сами-то за разными столами сидели, как он заметил). Тут уж пришлось конкретно рассказать, что Тверд со Жданом планируют расширять дело на закат (до того таких подробностей он не раскрывал), при этом один из них, скорее всего, останется во Пскове, а второй переберется куда-то в эти края, что открывает новые возможности для тех, кто понимает… С учетом того, что и у Ганзы, и у Ливонского ордена по торговле с русскими княжествами все время бывали ограничения (причем разные!), и часть из них относилась именно к русским купцам (а часть – вообще к русским землям), такая комбинация (хоть и не особо сложная, чего уж там) представляла интерес. А с учетом того, что купцов этих Псковских бургомистры знали (заочно, но тем не менее), у обоих в глазах Пимен что-то такое увидал… Но – разговор был отложен, да и сам он намекнул, что готов при удобном случае (но наедине) побольше рассказать, вызвав какую-то иную переглядку между купцами… Но – на первый раз все этим и закончилось, и его отпустили, проводив вполне милостивыми кивками, впрочем.
Торгаш выяснил и подробности, которые, правду сказать, в городе и так знала почти каждая собака. Нет, бургомистры не враждовали между собой – до такого они не опускались, но и дружбы между ними не было. Герры (точнее, хееры, как было принято сейчас в Ревеле, слегка на голландский манер) Петер ван Баарен и Йохан Янссен давно разделили между собой рынки, как сказали бы в 21 веке. Ван Баарен, жизнелюбивый толстячок средних лет, бывший на первой встрече в ресторации в яркой, богатой одежде, торговал зерном (всеми его видами), в основном, с севером и ганзейскими городами германских земель, а завозил в Ливонию соль. Хеер Янссен был уже в годах, одеваться предпочитал строго и в темное, почти как лицо духовного звания, любил цитировать Библию и торговал в основном живым товаром. Скотом и – да-да – людьми. А завозил в Ливонию в основном железо, медь, оружие… Под ними работало множество мелких купцов, при случае они не стеснялись и перехватывать друг у друга товар, чем потом между собой любили и прихвастнуть, но, опять же, без вражды. А так люди были опытные и… опасные, что ван Баарен с его почти всегда веселыми голубыми глазами, что Янссен со своим холодным взглядом, слегка навыкате. Именно глаза их почему-то больше всего запомнились Пимену после первой встречи.
Некоторое время после нее ничего не происходило, разве что Торгаш рискнул все же отправить гонца к своим. Пимен все так же заходил вечерами выпить пива, посетил веселый дом, порекомендованный ему после некоторых намеков новыми знакомыми, в воскресенье сходил в православную церковь (была она в предместье Ревеля, далековато, но народ там был, и русская речь звучала). Вернувшийся гонец рассказал новости, что с победой тогда ушел Гридя с другими своими бойцами с того перекрестка (это больше всего беспокоило Торгаша с Пименом), хоть и не без потерь, ну, и о других событиях. А где-то через седмицу после первого знакомства бургомистры по одному прощупали Пимена уже тет-а тет. Янссен выбрал время, когда ван Баарена не было в городе, и почти весь вечер проговорил с Пименом на втором поверхе. Тут уж он его и за стол пригласил, и пивом угостил, хотя и был строг и холоден. Ван Баарен, похоже, узнав, что опоздал, расщедрился на приглашение православного (на что заметно морщился «святоша» – такое он имел прозвище,Янссен) к себе домой, в свой большой и богато обставленный (даже для Пимена, видавшего лучшие виды) дом – почти в центре города, со всяким службами на заднем дворе, чуть ли не больше самого дома по площади, и даже с небольшим садиком. Впрочем, Пимен вполне смог для затравки разговора начать с восхищения обстановкой, сдержанно похвалив вкус хозяина, и поддержать такой же тон за угощением – нет, не за обедом, до такого не дошло, но хорошее вино и закуски ван Баарен выставил.