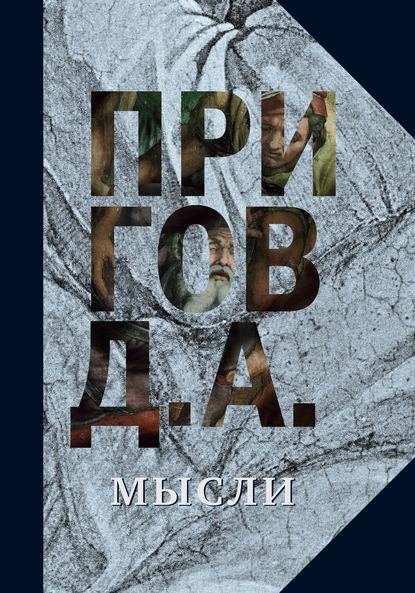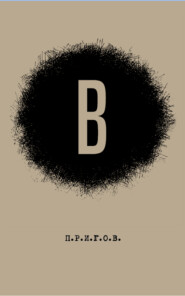По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мысли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
2) «Этика невлипания» (или мерцания), то есть отсутствии идентификации автора с одним из этих дискурсов, техника критики противоположных, казалось бы, позиций: «этика художнического поведения как незадействованность, невлипание ни в один конкретный дискурс, но просто явление его в соседстве с любым другим или другими, то есть актуализируясь в текстовом пространстве в виде швов и границ…» («Мы так близки что слов не нужно», 1993). Важным, если не важнейшим аспектом этой этики становится «проблематичность личного высказывания» («Я знал его лично», 1994) – принцип, понимаемый Приговым как основополагающий для постмодернизма.
3) Персонажность автора, для которого теперь, «в отличие от предыдущих авторских поз, как бы нет пласта, разрешающего авторские амбиции. В данном случае если обычного исповедального поэта (чья поза по разным причинам в нашей культуре и читательском сознании идентифицируется с единственно истинной поэтической позой) в его отношении с текстом можно уподобить актеру, в идеале совпадающему с текстом, то отношение поэтов нового направления к тексту можно сравнить с режиссерским, когда автор видимо отсутствует на сцене между персонажами, но имплицитно присутствует в любой точке сценического пространства. Именно введение героев в действие, способы разрешения конфликтов и выведение персонажей из действия и объявляют особенности авторского лица. Нужно напомнить, что герои этих спектаклей не персонажи (даже типа зощенковских), но языковые пласты как персонажи, однако не отчужденные, а как бы отслаивающиеся пласты языкового сознания самого автора» («Что надо знать»). Отсюда же – «отсутствие в тексте пласта личных авторских амбиций, авторского маркированного языка, совпадающего с центральным положением художника – описателя мира <…> отсутствие утопически проективного пафоса, актуализация операционального уровня и пр.» («Без названия», 1995).
4) И как обобщающее условие одновременной реализации всех этих стратегий выступает перформатизм, или перенос «центра активности художника в сферу манипулятивности и операциональности» («Я его знал лично»); «жест, авторская поза <…> ограничивающий авторскую волю, авторское участие именно этим жестом, обретающим в культурном пространстве (то есть в атмосфере привычного ожидания акта высокого искусства) самостоятельное, хотя и внетекстовое значение» («Что надо знать»).
В итоге складывается эстетика и стратегия «испытания на прочность дискурсов и идеологий», принципиально отказывающиеся от «идеи прекрасного, безобразного или же нищего (по примеру, скажем, арте поверa[8 - «Арте повера», «бедное искусство» движение в итальянском искусстве 1960–1970-х, основанное на использовании «грубых» природных или промышленных материалов вместо холста и красок, инсталляций, часто на природе, вместо картин и на разработке политических и исторических тем. В российской критике 1990-х было принято считать некоторых российских художников близкими к арте повера: см. об этом статью Макса Фрая «Бедное искусство» (http://azbuka.gif.ru/alfabet/b/bednoe-iskusstvo/).])» («Этика соц-арта», 2000).
В статье о соц-арте, написанной за две недели до смерти, Пригов говорит: «в ходе работы вырабатывалась некая технология испытания подобного рода тотальных языков, утопий и идеологий, а также и грамматика их прочтения не как абсолютных истин, но просто неких типов говорения, возможно, и истинных в пределах своей аксиоматики. Этот опыт и разработанность подобных художественных технологий в дальнейшем позволяли применять их и к испытанию любых других языков и высказываний для обнаружения скрытых тотальных амбиций» («Соц-арт», 2007).
В этом описании теоретической системы Пригова мы нарочно соединили цитаты из его программных статей, написанных в диапазоне от 1989 до 2000-х годов. В разное время Пригов называет эту эстетику то концептуализмом («Что надо знать», 1989), то постмодернизмом («Мы так близки, что слов не нужно», 1993; «Я его знал лично», 1994; «Без названия», 1995), то соц-артом («Как вас теперь называть», конец 1980-х ранние 1990-е; «Этика соц-арта», 2000; «Соц-арт», 2007). Различия между этими «номинациями» оказываются для Пригова достаточно факультативными. Скажем, говоря о соц-арте, он подчеркивает деконструкцию мифа, воплощенного в «соцязыке», хотя и оговаривается: «При общeкритическом отношении к используемому материалу, несомненно, не могли не проглядывать и элементы если и не восхищения и адорации отдельными его пластами и образами, то некоторой все-таки экзистенциальной повязанности с ним, даже привязанности по причине детских и юношеских искренних переживаний» («Соц-арт»). Сравнивая концептуализм и постмодернизм, он обращает внимание на «жестко-конструктивное отстояние автора от текста» в концептуализме в отличие от постмодернистского «мерцательного типа взаимоотношения, когда достаточно трудно определить степень искреннего погружения автора в текст и чистоту и дистанцию отстояния от него. Именно драматургия взаимоотношения автора с текстом, его мерцание между текстом и позицией вовне и становится основным содержанием этого рода поэзии» («Что надо знать»). Обсуждая собственно постмодернизм, подчеркивает «трагедийность проблематичности личного высказывания», поясняя: «Даже в самых интимных сферах человеческого проявления он <постмодернизм> обнаруживает культурную детерминированность нашего поведения. В искусстве это выявляется в тотальной аллюзивности и цитатности, насыщенности шоковыми приемами (именно в силу понимания их “языковости“ постмодернизм так легко обращается к эпатирующим темам и приемам), ироничности и прохладной отрешенности, что в единичных проявлениях вполне может быть свидетельством и совсем иных культурно-эстетических установок» («Я его знал лично»). А в статье «Концептуализм» 2003 года он скажет совсем просто: «…под этим титлом <концептуализм> подразумевалась достаточно большая и разнообразная группа художников и литераторов, многие из которых, строго говоря, в местах более корректных определений и терминологической строгости подобным образом названы быть не могли бы».
Интересно, что с той же методичностью Пригов на протяжении многих лет повторяет тезис о том, что эта эстетика – называемая им то концептуализмом, то постмодернизмом, то соц-артом – уже ушла в прошлое или находится в состоянии кризиса. Например:
1989: «…описанный выше культурный менталитет и поэтика концептуализма в своей чистой и героической форме уже, собственно, стали достоянием истории, кончились или модифицировались в конце 70-х начале 80-х годов» («Что надо знать»).
1993/1994: «проблематичность <личного высказывания, характерная для постмодернизма,> переводится на уровень промысловой деятельности <…> Сейчас черты кризиса постмодернизма заключаются в том, что он уходит в сферу художественного промысла» («Без названия»); «единообразие горизонтальной динамики и акцидентности вертикальных уколов в наше время уже становится достаточно монотонным, чтобы являть риск и шок, ведомые живому культурному действу» («Я его знал лично»).
2000: «…<Соц-арт> является последним и завершающим стилем явившегося миру во всем своем устрашающем величии и не выдержавшего, погребенного под собственной неимоверной тяжестью коммунизма» («Этика соц-арта»).
Вся эта риторика кризиса росла из общего дискуссионного поля, сложившегося на московских неофициальных семинарах еще в позднесоветские годы. «О том, что концептуализм умер, доказательно поговаривали уже в начале восьмидесятых, и доказывали это не какие-то сторонние недоброжелатели, но основные действующие лица нового в ту пору художественного движения. К тому времени концептуализм как оформленное, отмеченное специальным термином течение существовал в России всего несколько лет» (Михаил Айзенберг, «Вокруг концептуализма», 1994). Однако Пригов удержал эту риторику дольше всех из всего концептуалистского круга – и, по-видимому, ему идея перманентного кризиса была важнее, чем для всех остальных.
Постоянное «умирание» эстетической системы, к которой Пригов принадлежит и которую одновременно анализирует, думается, свидетельствует об остром чувстве неудовлетворенности существующим эстетическим инструментарием. Пригов постоянно ищет новый язык, но сохраняет в своей работе и прежние средства: он пишет романы, чего раньше не делал, и усложняет романный язык («Ренат и Дракон»), но продолжает развивать и прежние стратегии, от «бестиариев» в изобразительном искусстве до иронических по тону стихотворений. Пригов эволюционировал, но не видел никакой альтернативы концептуализму.
Однако в конце 1990-х годов он переходит к следующему этапу своей теоретической работы. Например, в характерной статье начала 2000-х «Культо-мульти-глобализм» Пригов предлагает новое представление о современном художнике – больше не аналитике «советского языка», а переводчике и медиаторе между различными культурными языками, в том числе – между языками локальными и глобальными.
По его статьям 2000-х годов можно заключить: единственного возможного «Другого» по отношению к тому, что он делает, Пригов видел в массовой культуре и в мире массмедиа: «При нынешней раскройке культурного пространства в пределах явленности публичному вниманию существуют только события, высветленные телевизионным экраном (в меньшей степени уже – газетными страницами)» («И пожрала… но не до конца! Не до конца?», 2005). Он серьезно думает о том, как возможно встроить разработанные им и его кругом культурные стратегии в новые контексты, и по большей части приходит к противоречивым выводам.
С одной стороны, именно в коммерческой культуре гипертрофированное значение приобретает «проблема назначения и легитимации имени» – то есть тот «операционный уровень», о важности которого Пригов писал многие годы.
С другой стороны, поп-успех на рынке, который, как подчеркивает Пригов, является современным эквивалентом власти, доступен только тому искусству, которое Пригов определяет как «художественные промыслы» «то есть все роды деятельности, откуда вынуты стратегический поиск и риск, где заранее известно, что есть художник-писатель, что есть текст, что есть потребитель-читатель-зритель, как кому себя следует вести…» («Счет в гамбургском банке», 1998). Развивая этот тезис, Пригов, однако, никогда не допускает для себя и мысли о необходимости «приспособиться к рынку». Его занимает вопрос о «зонах выживания» близкой ему культурной деятельности.
Для искусства с устойчивой «культурно-критической доминантой», как убеждается Пригов, необходимы иные «рынки сбыта», а именно академическая среда, гражданское общество «и какое-нибудь более-менее влиятельное левооппозиционное движение…». Это позитивный сценарий. А негативный – «резкое ужесточение режима <…> отторгающего в оппозицию большую часть культурной элиты, которая и станет питающей средой и потребителем культуро-критицической направленности в искусстве» («Концептуализм», 2003).
Через десять лет после смерти Пригова ясно, что развитие пошло по второму сценарию, и, как он и предсказывал, «культуро-критицическое» искусство вновь вызывает интерес[9 - См. об этом: Leiderman D. Dissensus and «shimmering»: tergiversation as politics// Russia Art Resistance and the Conservative-Authoritarian Zeitgeist / Ed, by L. Jonson and A. Erofeev. London and New York: Routledge, 2018. Р. 165-181.]. Так что в конечном счете оказывается, что, несмотря на повторяющиеся рассуждения о кризисе соц-арта/концептуализма/постмодернизма, эстетика Пригова, сочетающая перформативность с этикой невлипания, персонажностью автора и дискурсивной глоссолалией, доказывает свою жизнеспособность и после смерти советской культуры, и в условиях «рыночного» авторитаризма 2000–2010-х.
В сущности, этот вывод совпадает с тем переосмыслением культурной роли постмодернизма, к которому Пригов приходит в конце жизни. В статье 2006 года «Верим ли мы, что мы верим, во что мы верим?» он пишет: «…постмодернизм, постмодернистский тип художника и творчества суть не просто явление некоего стиля (даже большого), но один из глобальных способов артикуляции и схватывания неких основополагающих антропологических констант, в то же время являясь и их реальным, оформленным окончательно только в наше время выходом в культуру. Как тот же реализм, концептуализм неотменяем, и как в чистоте, так и в разных добавочных дозах и сочетаниях он всегда будет существовать в горизонте актуальной культуры и творчества».
Теперь необходимо обсудить, как эти общие эстетические представления Пригова соотносятся с его идеями о месте поэзии в современной культуре.
ОДНА, СЛОВЕСНАЯ, СТОРОНА ДЕЛА
В лекциях и интервью 1990–2000-х Пригов последовательно констатировал: проект Просвещения завершен, проект модернистского искусства завершен, поэзия в ее традиционной форме становится все более архаичной, традиционной фигуры автора более не существует. В этой ситуации «завершения проектов» легко впасть в соблазн декадентского мировоззрения, которое Пригов пародировал в «Сороковой азбуке (конца света)» (1985): «…все, все, все умирают», «Я, Я <…> – Пригов – остался один-одинешенек[10 - Из «Азбук» № 50 и № 40 соответственно.]». Такой примитивный эсхатологизм для Пригова был тоже формой идеологии, а любую идеологию он воспринимал как язык, претендующий на власть.
С начала 1990-х он с откровенным сарказмом (см., например, статью «Крепкого вам здоровья, господа литераторы!», написанную в начале 1990-х в соавторстве со Светланой Беляевой-Конеген) говорил о том, что с концом советского режима заканчивается русский литературоцентризм, предполагающий, что «именно писатель овладел универсальным языком выражения некой метафизической духовной сущности этого народа» и что «…ощущение собственного краха, приближающегося исчезновения такой культурно-значимой единицы, как русский писатель, с авансцены культурного процесса интерпретируется нашими литераторами <…> как крах нравственности, культуры и вообще – крах всего святого». В своем спокойном и жестком прощании с «литературоцентризмом» Пригов был наиболее радикальным из тогдашних публицистов, которые предпочитали прощаться только с советской литературой, а не с литературоцентризмом в целом.
На протяжении 1990–2000-х писатель не уставал повторять, что современные читатели мало интересуются поэзией, что позиция культурного героя в медиа узурпирована мифологизированными поп- и рок-звездами, а логоцентрическая цивилизация отступает под натиском визуальных практик. По его убеждению, в постиндустриальной современности поэты утратили роль «магических манипуляторов словом», которую они сохраняли с конца XIX века. Соответственно, в массовом обществе «статус и возможности поэзии включаться в актуальные социокультурные процессы и быть притом услышанной почти трагически уменьшилась и критически сократилась – как, впрочем, и всей серьезной литературы» («И пожрала… но не до конца! Не до конца?»). Особенно же скверной, по его мнению, была ситуация в России, где ностальгия старших поколений интеллигенции по временам «стадионной поэзии» оказалась соединена с отсутствием необходимой социальной и институциональной инфраструктуры:
…<Еще одна зона реальной активности поэзии –> специфическая поэзия, ориентированная на университетско-академическую среду, вроде американской «language school», имеющая своих читателей в интеллектуальных студенческо-академических кругах. Однако при нынешней неразвитости этой среды у нас, слабом ее влиянии на социокультурные процессы в стране, ее невысокой престижности и финансовой несостоятельности и вообще почти воинствующем антиинтеллектуализме в обществе понятно, что подобная поэзия вряд ли может иметь у нас достаточную аудиторию, существенно разнившуюся бы с аудиторией поэзии традиционной («Утешает ли нас это понимание?», 2003).
Однако, провозглашая столь пессимистическую, иногда даже пародийно-утрированную в своем пессимизме точку зрения, Пригов столь же последовательно намекал на то, что из этой ситуации, которая выглядит катастрофической с социологической точки зрения, может найтись непредусмотренный выход. Эссе об изменении социального статуса поэзии в современном обществе завершается пословицей, которую Пригов цитировал несколько раз по другим, но сходным поводам:
…у поэзии есть мощный аргумент и в ее нынешнем противостоянии массмедиа и поп-культуре и прочим соблазнителям слабых человеческих душ – он прекрасно сформулирован в замечательной немецкой поговорке: «Говно не может быть невкусным, миллионы мух не могут ошибиться» (там же).
Эмоциональная диспозиция, которая стояла за этими ламентациями, неожиданно похожа на диспозицию, на которой были основаны столь же пессимистические выступления М.Л. Гаспарова в 1990—2000-х годах. Автор словно бы взывает: докажите мне, что все, может быть, не так плохо, потому что сам я этому доказательств найти не могу. И Гаспаров, и Пригов прилагали усилия к тому, чтобы опровергнуть свои пессимистические выводы. Для Гаспарова таким способом самоопровержения стали «Записи и выписки» и научные работы, в которых он демонстрировал историческую и культурно-психологическую «несводимость» того или иного литературного произведения к современным ожиданиям (следовательно, и сегодняшний пессимизм – по этой логике – может оказаться исторически ограниченным[11 - См. об этом типе поздних работ Гаспарова раздел «Личность» в статье: Дмитриев А., Кукулин И., Майофис М. Занимательный М.Л. Гаспаров: академик-еретик («Антиюбилейное приношение» редакции «НЛО») // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. С. 170-178.]), а у Пригова – собственное творчество. Он последовательно ставил вопрос о создании новых форм поэзии и, более того, о возможности антропологической утопии, решающей задачу создания такого художника и такого строя художнической души, которые могли бы преодолеть или, точнее, переиграть тупиковую ситуацию в культуре, «кризис нынешнего состояния» (из беседы Пригова с А. Парщиковым).
Надо заметить, что суждения Пригова о состоянии литературы всегда сопряжены с оглядкой на изобразительное искусство, которое представляется Пригову куда более динамичным образцом современной культуры, чем литературная деятельность:
Если литература, даже самая продвинутая и радикальная, по-прежнему обитает в пределах текста и традиционных жанров, то изобразительное искусство давно преодолело доминацию текста над культурно-эстетическими жестами художника и стратегией артистического поведения, освоила и разработала способы работы с ними, презентации и музеефикации их <…> В изобразительном искусстве объявилось огромное количество неконвенциональных жанров (объект, инсталляция, инвайронмент, вербальные тексты, хэппенинги, перформансы, акции, мейл-арт, видео, фото, компьютерные инсталляции, проекты), по своим признакам совсем уже не укладывающихся в привычные рамки и прежнее понятие изобразительного искусства, но безоговорочно доминирующих ныне. Все же новации в пределах литературы, типа визуализации, перформансов и акций, до сих пор не абсорбируются ни литературным рынком, ни литературной средой… («Альтернатива» 2005).
Поэзию Пригов постоянно подозревал в том, что весь ее потенциал воздействия в современном мире соответствует не новаторским, а архаическим уровням культуры, – но не отвергал из-за этого поэзию как таковую, а стремился ее революционизировать, словно бы заново изобрести[12 - Об этом стремлении Пригова одним из первых упомянул поэт и филолог Сергей Завьялов в предисловии к сборнику своих стихотворений «Мелика» (М.: АРГО-Риск, 1998). Завьялов неожиданно – но, на наш взгляд, продуктивно – сравнил в этом предисловии концептуалистов (при этом только Пригова он процитировал персонально) с христианскими реформаторами греческой поэзии в ранней Византии, полностью изменившими не только мировоззренческие основы тогдашней поэзии, но и ее метрическую систему.].
Свое место в культуре Пригов видит на границе между словесным и визуальным искусством, определяя свою работу как «повышение проходимости этой границы», хотя в то же время, замечает он, «надо следить, чтобы она полностью и не смывалась, так как исчезнет основное напряжение моей деятельности» («Одна, словесная, сторона дела», 1991). Развивая эту мысль, он говорит об обращениях к тексту как к элементу визуальной выразительности, известных по историческому авангарду, о «миграции А. Монастырского из поэзии в сферу концептуальных акций», о «бытовании Рубинштейна на мерцающей границе текстов как актов литературы и как манипулятивных объектов» – и, наконец, о своих собственных «опытах в сфере визуальных, манипулятивных и сонорно-перформансных (бывают и такие, Господи!) текстов» (там же). Но главное воздействие опыта изобразительного искусства на литературу он видит именно в «работе с имиджами» – то есть в перформатизме:
Именно имиджевый и поведенческий уровень на данный момент является местом объявления и предельным проявлением позы современного художника <…> объемлющим все сферы художнической деятельности, так как нынешнее искусство вообще имеет тенденции к развеществлению границ жанров и видов и порождению новых жанров, не определяемых и не ранжируемых по старым классификациям, – например, инсталляция, инвайронмент, перформанс, акция, боди-арт, лэнд-арт, видео-арт и др. («Интеграл дрожащий», 1994)
Пригов скептически относится и к попыткам найти новое «место» поэзии в интернете, и в «остроумных откликах на актуальные события», то есть в оперативной поэтической сатире: «…проблема не в том, что они шуткуют и задействуют самые нехитрые пласты поэтического арсенала, а в том, что они <…> угадываемы моментально»; «сатирики-юмористы» от поэзии находятся, по его мнению, «в большинстве своем за пределами культурной вменяемости» («И пожрала… но не до конца! Не до конца?»).
Перечисляя функции поэзии – ответ на потребности людей «с неординарным ощущением языка», воплощение любви к языковым играм, отсылка к «атавистическим корням древних магическо-мантрических практик», обеспечивающая «длинную» историко-культурную память, шлифовку языка, – Пригов настаивает: «поэзия – это не только тексты, но специфический способ выстраивания и явления обществу значимых типов культурного, в данном случае – поэтического, поведения» (там же). И если это действительно так, то существование поэзии не зависит от числа ее читателей, а является необходимой составляющей культуры, которая все время ищет и подвергает испытаниям новые субъектности. Служить «лабораторией» и «испытательным» полигоном новых типов личности и личностного самовыражения – это и есть та «неистребимая антропологическая функция, сверхзадача» поэзии, которая если даже и перейдет к «другим сферам и областям культурной человеческой деятельности», то «непривычная, она явится нам и прошепчет магические слова пароля, моментально узнаваемого и моментально по нему узнаваемая». Но это, добавляет Пригов, «уж очень невероятный сценарий. А если и вероятный, то в невероятном временном удалении» (там же).
ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР
Особенность приговского теоретизирования состоит в том, что с его помощью Пригов артикулирует и (квази)исторически обосновывает логику исповедуемой им эстетики. Как и многие авангардисты, он подчиняет эволюцию мировой культуры тому, что считает ее вершиной, – творчеству тех современников, которые были близки ему самому. Иначе говоря, он проецирует свою теоретическую концепцию (она же – «программа работ», если пользоваться выражением Льва Рубинштейна) на историю, тем самым представляя проповедуемое им искусство, основанное в первую очередь на поведенческих стратегиях, как итог всей культурной эволюции.
Пригов выстраивает свою теорию культуры вокруг того, как в культуре моделируется фигура самого художника.
В центре приговской типологии культуры лежит представление о «больших драматургических взаимоотношениях культуры и творческой личности». При этом творческая личность всегда отвоевывает новые культурные территории и, условно говоря, стоит на границе важнейших для данной культуры (в приговском понимании, конечно) оппозиций. Для Пригова крайне важна «драматургия» как теоретический концепт: под ним понимаются поле конфликта, внутренних напряжений культуры, из которых только и может родиться новизна.
В манифестах конца 1980-х начала 1990-х Пригов утверждал, что в разные эпохи в искусстве поочередно приобретали то большую, то меньшую значимость разные уровни произведения: «идейно-мировоззренческий, сюжетно-содержательный, образно-метафорический, конструктивно-версификационный, культурно-ассоциативный и экзистенциально-творческий. <…> В разные времена на поверхности вод появлялся какой-нибудь позвонок этого огромного позвоночника». Преобладающее влияние того или иного «позвонка», определяло «большой стиль» эпохи. Современная же эпоха отменяет саму идею подобного сменяющегося доминирования уровней, так как допускает сосуществование разных стилей – «…художник прочитывается на метауровне как некое пространство, на котором сходятся языки» («Переписка Д.А. Пригова и Ры Никоновой»).
В текстах конца 1990-х – начала 2000-х годов Пригов говорит о том, что сегодня происходит завершение четырех крупных социально-культурных «проектов». Первый, возрожденческий, основан на оппозиции «автор – не-автор»: автор заявляет свое право на индивидуальное творчество, отвоевывая его у анонимной традиционалистской парадигмы. Просвещенческий проект прибавляет к возрожденческому образу художника-титана новую составляющую – учителя, просветителя и мудреца. Основным содержанием авторства для этого типа культуры становятся правда и/или знание, противостоящие лжи властей и невежеству масс. Следующий проект – романтический. В этом проекте художник обретает функцию медиатора между «высоким» и «низким», хотя наполнение этих категорий у каждого автора может быть своим: «Хлебников представлял себя посредником между древними глубинными тайнами языка и повседневностью речи. Маяковский – между высшей энергией социального бунта и банальностью обыденной жизни» («Что делается? Что у нас делается? Что делать-то будем?», 2000)
Наконец, четвертый проект – авангардный. Его основа – преодоление оппозиции «искусство – не искусство»: «основная драматургия авангардного типа поведения… была явлена в постоянном расширении зоны искусства, пока зоны неискусства не осталось. То есть зоной искусства оказались все возможные сферы манифестации художника с доминирующим назначающим жестом» («Вторая сакро-куляризация», 1990).
Внутри этой «драматургии» Пригов выделяет три «возраста» авангарда. Первый – «футуристически-конструктивный», он связан с «вычленением предельных онтологических единиц текста» и вычислением «истинных законов построения истинных вещей». Частью этой стратегии является «переход художников в сферу практической и социальной деятельности». Именно эта стратегия, как считает Пригов, послужила идеологическим и психологическим основанием тоталитарной культуры, которая перевела авангардные принципы на макроуровень, «обнаружив и объявив “большие” онтологические единицы текста, как бы макромолекулы, которыми можно оперировать как ненарушаемыми» (там же), – с той же легкостью, как авангардисты работали с единицами языка, например: «классицистическая традиция, гуманистическая философия, магическая практика». В переводе на более привычный язык это значит, что тоталитарные режимы ХХ века объявляли себя преемниками прежних культурных эпох, но в своих отсылках к этим эпохам превращали любые определения «больших» идей и стилей в пустые означающие. Здесь Пригов отчасти идет за Борисом Гройсом, который считает авангардистов прямыми предшественниками тоталитарных систем[13 - См.: Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993.], но сменяет оптику: с политической – на культурно-психологическую.
Второй «возраст» – абсурдистский, выявивший «абсурдность всех уровней языка, не детерминированного никакими общими закономерностями, ни общей памятью, ни общедействующими операциональными законами» (там же). «В сфере социальной рефлексии» абсурдизм стал «отрицательной реакцией на претензии государства» быть рациональным проектировщиком жизни для всех людей.
Наконец, третий возраст идентифицируется как «поп-артистско-концептуальный» и выступает в качестве псевдодиалектического синтеза двух предыдущих возрастов: «Пафосом третьего периода стало утверждение истинности каждого языка в пределах его аксиоматики <…> и объявление его неистинности, тоталитарных амбиций в попытках выйти за пределы и покрыть весь мир собой» (там же). Именно в этот период эволюции авангарда художник «оказывается в метаязыковой зоне операционального уровня», что порождает смешение разных видов искусств, различия между которыми «отменяются на уровне авторской языковой поведенческой модели» (там же). Как Пригов говорит в одном из бесед с С. Шаповалом: «Только с концептуализмом пришел менталитет не текстовой, а операциональный, когда представители литературы не надстраивали новый стилистический слой, а представили динамическую модель. Для них все слои стали персонажами[14 - Пригов Д. Шаповал С. Портретная галерея Д.А.П. М.: НЛО, 2003. С. 16.]».
Именно здесь наступает «конец текстоцентризма» и приходит время перформатизма: литература становится «ресурсом текстового и персонажного цитирования», а «операция, синоним жеста» берет на себя роль «единицы текста». В этой культурной среде актуальные стратегии разворачиваются на границах различных жанров и видов искусств, в результате чего и формируется произведение искусства нового типа – «как бы эдакий современный гезамкунстверк» [15 - Об отношении Пригова к концепции целостного, или тотального, произведения искусства (Gesamtkunstwerk), восходящей к Рихарду Вагнеру, см. подробнее в статье Евгения Добренко: Dobrenko E. Prigov and the Gesamtkunstwerk // The Russian Review. V. 75. Issue 2 (April 2016). P. 209-219. См. также: Кукулин И. Явление русского модерна современному литератору: четыре романа Д.А. Пригова // Неканонический классик: Д.А. Пригов (1940 2007) / Под ред. Е. Добренко, И. Кукулина, М. Липовецкого, М. Майофис. М.: НЛО, 2010. С. 566-611.] («Третье переписывание мира», 2003).
Впрочем, начиная с конца 1990-х годов Пригов обдумывает и более радикальные сценарии культурной эволюции, которые выходят за пределы ее «антропологических» очертаний.
АВАНГАРДНЫЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ: НОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Теоретические идеи Пригова, в сочетании с его эстетической практикой, невозможно однозначно вписать ни в авангардную, ни в постмодернистскую парадигму. Перед нами очень своеобразный (хотя и не уникальный) гибрид – не то авангардный постмодернизм, не то постмодерный авангард.
С авангардом Пригова роднит настойчивый поиск новизны, а вернее, новой эстетической драматургии. С конца 1980-х годов Пригов неоднократно писал о том, что во второй половине ХХ и начале XXI века поколения в культуре сменяют друг друга гораздо быстрее, чем прежде. По мысли Пригова, если в прошлом любой стиль воспроизводился на протяжении жизни нескольких поколений, то в новейшей истории обновление эстетических идей, формирующих новую стилистику, происходит каждые 5–7 лет. Поэтому слово «поколение» в современном искусстве берет свой смысл не из демографического, а скорее из научно-технического, инженерного языка: «поколение» в искусстве ныне отсылает не к представлению о сменяющихся каждые 20–30 лет социальных генерациях, а скорее к метафоре «компьютер (или самолет) нового поколения».
3) Персонажность автора, для которого теперь, «в отличие от предыдущих авторских поз, как бы нет пласта, разрешающего авторские амбиции. В данном случае если обычного исповедального поэта (чья поза по разным причинам в нашей культуре и читательском сознании идентифицируется с единственно истинной поэтической позой) в его отношении с текстом можно уподобить актеру, в идеале совпадающему с текстом, то отношение поэтов нового направления к тексту можно сравнить с режиссерским, когда автор видимо отсутствует на сцене между персонажами, но имплицитно присутствует в любой точке сценического пространства. Именно введение героев в действие, способы разрешения конфликтов и выведение персонажей из действия и объявляют особенности авторского лица. Нужно напомнить, что герои этих спектаклей не персонажи (даже типа зощенковских), но языковые пласты как персонажи, однако не отчужденные, а как бы отслаивающиеся пласты языкового сознания самого автора» («Что надо знать»). Отсюда же – «отсутствие в тексте пласта личных авторских амбиций, авторского маркированного языка, совпадающего с центральным положением художника – описателя мира <…> отсутствие утопически проективного пафоса, актуализация операционального уровня и пр.» («Без названия», 1995).
4) И как обобщающее условие одновременной реализации всех этих стратегий выступает перформатизм, или перенос «центра активности художника в сферу манипулятивности и операциональности» («Я его знал лично»); «жест, авторская поза <…> ограничивающий авторскую волю, авторское участие именно этим жестом, обретающим в культурном пространстве (то есть в атмосфере привычного ожидания акта высокого искусства) самостоятельное, хотя и внетекстовое значение» («Что надо знать»).
В итоге складывается эстетика и стратегия «испытания на прочность дискурсов и идеологий», принципиально отказывающиеся от «идеи прекрасного, безобразного или же нищего (по примеру, скажем, арте поверa[8 - «Арте повера», «бедное искусство» движение в итальянском искусстве 1960–1970-х, основанное на использовании «грубых» природных или промышленных материалов вместо холста и красок, инсталляций, часто на природе, вместо картин и на разработке политических и исторических тем. В российской критике 1990-х было принято считать некоторых российских художников близкими к арте повера: см. об этом статью Макса Фрая «Бедное искусство» (http://azbuka.gif.ru/alfabet/b/bednoe-iskusstvo/).])» («Этика соц-арта», 2000).
В статье о соц-арте, написанной за две недели до смерти, Пригов говорит: «в ходе работы вырабатывалась некая технология испытания подобного рода тотальных языков, утопий и идеологий, а также и грамматика их прочтения не как абсолютных истин, но просто неких типов говорения, возможно, и истинных в пределах своей аксиоматики. Этот опыт и разработанность подобных художественных технологий в дальнейшем позволяли применять их и к испытанию любых других языков и высказываний для обнаружения скрытых тотальных амбиций» («Соц-арт», 2007).
В этом описании теоретической системы Пригова мы нарочно соединили цитаты из его программных статей, написанных в диапазоне от 1989 до 2000-х годов. В разное время Пригов называет эту эстетику то концептуализмом («Что надо знать», 1989), то постмодернизмом («Мы так близки, что слов не нужно», 1993; «Я его знал лично», 1994; «Без названия», 1995), то соц-артом («Как вас теперь называть», конец 1980-х ранние 1990-е; «Этика соц-арта», 2000; «Соц-арт», 2007). Различия между этими «номинациями» оказываются для Пригова достаточно факультативными. Скажем, говоря о соц-арте, он подчеркивает деконструкцию мифа, воплощенного в «соцязыке», хотя и оговаривается: «При общeкритическом отношении к используемому материалу, несомненно, не могли не проглядывать и элементы если и не восхищения и адорации отдельными его пластами и образами, то некоторой все-таки экзистенциальной повязанности с ним, даже привязанности по причине детских и юношеских искренних переживаний» («Соц-арт»). Сравнивая концептуализм и постмодернизм, он обращает внимание на «жестко-конструктивное отстояние автора от текста» в концептуализме в отличие от постмодернистского «мерцательного типа взаимоотношения, когда достаточно трудно определить степень искреннего погружения автора в текст и чистоту и дистанцию отстояния от него. Именно драматургия взаимоотношения автора с текстом, его мерцание между текстом и позицией вовне и становится основным содержанием этого рода поэзии» («Что надо знать»). Обсуждая собственно постмодернизм, подчеркивает «трагедийность проблематичности личного высказывания», поясняя: «Даже в самых интимных сферах человеческого проявления он <постмодернизм> обнаруживает культурную детерминированность нашего поведения. В искусстве это выявляется в тотальной аллюзивности и цитатности, насыщенности шоковыми приемами (именно в силу понимания их “языковости“ постмодернизм так легко обращается к эпатирующим темам и приемам), ироничности и прохладной отрешенности, что в единичных проявлениях вполне может быть свидетельством и совсем иных культурно-эстетических установок» («Я его знал лично»). А в статье «Концептуализм» 2003 года он скажет совсем просто: «…под этим титлом <концептуализм> подразумевалась достаточно большая и разнообразная группа художников и литераторов, многие из которых, строго говоря, в местах более корректных определений и терминологической строгости подобным образом названы быть не могли бы».
Интересно, что с той же методичностью Пригов на протяжении многих лет повторяет тезис о том, что эта эстетика – называемая им то концептуализмом, то постмодернизмом, то соц-артом – уже ушла в прошлое или находится в состоянии кризиса. Например:
1989: «…описанный выше культурный менталитет и поэтика концептуализма в своей чистой и героической форме уже, собственно, стали достоянием истории, кончились или модифицировались в конце 70-х начале 80-х годов» («Что надо знать»).
1993/1994: «проблематичность <личного высказывания, характерная для постмодернизма,> переводится на уровень промысловой деятельности <…> Сейчас черты кризиса постмодернизма заключаются в том, что он уходит в сферу художественного промысла» («Без названия»); «единообразие горизонтальной динамики и акцидентности вертикальных уколов в наше время уже становится достаточно монотонным, чтобы являть риск и шок, ведомые живому культурному действу» («Я его знал лично»).
2000: «…<Соц-арт> является последним и завершающим стилем явившегося миру во всем своем устрашающем величии и не выдержавшего, погребенного под собственной неимоверной тяжестью коммунизма» («Этика соц-арта»).
Вся эта риторика кризиса росла из общего дискуссионного поля, сложившегося на московских неофициальных семинарах еще в позднесоветские годы. «О том, что концептуализм умер, доказательно поговаривали уже в начале восьмидесятых, и доказывали это не какие-то сторонние недоброжелатели, но основные действующие лица нового в ту пору художественного движения. К тому времени концептуализм как оформленное, отмеченное специальным термином течение существовал в России всего несколько лет» (Михаил Айзенберг, «Вокруг концептуализма», 1994). Однако Пригов удержал эту риторику дольше всех из всего концептуалистского круга – и, по-видимому, ему идея перманентного кризиса была важнее, чем для всех остальных.
Постоянное «умирание» эстетической системы, к которой Пригов принадлежит и которую одновременно анализирует, думается, свидетельствует об остром чувстве неудовлетворенности существующим эстетическим инструментарием. Пригов постоянно ищет новый язык, но сохраняет в своей работе и прежние средства: он пишет романы, чего раньше не делал, и усложняет романный язык («Ренат и Дракон»), но продолжает развивать и прежние стратегии, от «бестиариев» в изобразительном искусстве до иронических по тону стихотворений. Пригов эволюционировал, но не видел никакой альтернативы концептуализму.
Однако в конце 1990-х годов он переходит к следующему этапу своей теоретической работы. Например, в характерной статье начала 2000-х «Культо-мульти-глобализм» Пригов предлагает новое представление о современном художнике – больше не аналитике «советского языка», а переводчике и медиаторе между различными культурными языками, в том числе – между языками локальными и глобальными.
По его статьям 2000-х годов можно заключить: единственного возможного «Другого» по отношению к тому, что он делает, Пригов видел в массовой культуре и в мире массмедиа: «При нынешней раскройке культурного пространства в пределах явленности публичному вниманию существуют только события, высветленные телевизионным экраном (в меньшей степени уже – газетными страницами)» («И пожрала… но не до конца! Не до конца?», 2005). Он серьезно думает о том, как возможно встроить разработанные им и его кругом культурные стратегии в новые контексты, и по большей части приходит к противоречивым выводам.
С одной стороны, именно в коммерческой культуре гипертрофированное значение приобретает «проблема назначения и легитимации имени» – то есть тот «операционный уровень», о важности которого Пригов писал многие годы.
С другой стороны, поп-успех на рынке, который, как подчеркивает Пригов, является современным эквивалентом власти, доступен только тому искусству, которое Пригов определяет как «художественные промыслы» «то есть все роды деятельности, откуда вынуты стратегический поиск и риск, где заранее известно, что есть художник-писатель, что есть текст, что есть потребитель-читатель-зритель, как кому себя следует вести…» («Счет в гамбургском банке», 1998). Развивая этот тезис, Пригов, однако, никогда не допускает для себя и мысли о необходимости «приспособиться к рынку». Его занимает вопрос о «зонах выживания» близкой ему культурной деятельности.
Для искусства с устойчивой «культурно-критической доминантой», как убеждается Пригов, необходимы иные «рынки сбыта», а именно академическая среда, гражданское общество «и какое-нибудь более-менее влиятельное левооппозиционное движение…». Это позитивный сценарий. А негативный – «резкое ужесточение режима <…> отторгающего в оппозицию большую часть культурной элиты, которая и станет питающей средой и потребителем культуро-критицической направленности в искусстве» («Концептуализм», 2003).
Через десять лет после смерти Пригова ясно, что развитие пошло по второму сценарию, и, как он и предсказывал, «культуро-критицическое» искусство вновь вызывает интерес[9 - См. об этом: Leiderman D. Dissensus and «shimmering»: tergiversation as politics// Russia Art Resistance and the Conservative-Authoritarian Zeitgeist / Ed, by L. Jonson and A. Erofeev. London and New York: Routledge, 2018. Р. 165-181.]. Так что в конечном счете оказывается, что, несмотря на повторяющиеся рассуждения о кризисе соц-арта/концептуализма/постмодернизма, эстетика Пригова, сочетающая перформативность с этикой невлипания, персонажностью автора и дискурсивной глоссолалией, доказывает свою жизнеспособность и после смерти советской культуры, и в условиях «рыночного» авторитаризма 2000–2010-х.
В сущности, этот вывод совпадает с тем переосмыслением культурной роли постмодернизма, к которому Пригов приходит в конце жизни. В статье 2006 года «Верим ли мы, что мы верим, во что мы верим?» он пишет: «…постмодернизм, постмодернистский тип художника и творчества суть не просто явление некоего стиля (даже большого), но один из глобальных способов артикуляции и схватывания неких основополагающих антропологических констант, в то же время являясь и их реальным, оформленным окончательно только в наше время выходом в культуру. Как тот же реализм, концептуализм неотменяем, и как в чистоте, так и в разных добавочных дозах и сочетаниях он всегда будет существовать в горизонте актуальной культуры и творчества».
Теперь необходимо обсудить, как эти общие эстетические представления Пригова соотносятся с его идеями о месте поэзии в современной культуре.
ОДНА, СЛОВЕСНАЯ, СТОРОНА ДЕЛА
В лекциях и интервью 1990–2000-х Пригов последовательно констатировал: проект Просвещения завершен, проект модернистского искусства завершен, поэзия в ее традиционной форме становится все более архаичной, традиционной фигуры автора более не существует. В этой ситуации «завершения проектов» легко впасть в соблазн декадентского мировоззрения, которое Пригов пародировал в «Сороковой азбуке (конца света)» (1985): «…все, все, все умирают», «Я, Я <…> – Пригов – остался один-одинешенек[10 - Из «Азбук» № 50 и № 40 соответственно.]». Такой примитивный эсхатологизм для Пригова был тоже формой идеологии, а любую идеологию он воспринимал как язык, претендующий на власть.
С начала 1990-х он с откровенным сарказмом (см., например, статью «Крепкого вам здоровья, господа литераторы!», написанную в начале 1990-х в соавторстве со Светланой Беляевой-Конеген) говорил о том, что с концом советского режима заканчивается русский литературоцентризм, предполагающий, что «именно писатель овладел универсальным языком выражения некой метафизической духовной сущности этого народа» и что «…ощущение собственного краха, приближающегося исчезновения такой культурно-значимой единицы, как русский писатель, с авансцены культурного процесса интерпретируется нашими литераторами <…> как крах нравственности, культуры и вообще – крах всего святого». В своем спокойном и жестком прощании с «литературоцентризмом» Пригов был наиболее радикальным из тогдашних публицистов, которые предпочитали прощаться только с советской литературой, а не с литературоцентризмом в целом.
На протяжении 1990–2000-х писатель не уставал повторять, что современные читатели мало интересуются поэзией, что позиция культурного героя в медиа узурпирована мифологизированными поп- и рок-звездами, а логоцентрическая цивилизация отступает под натиском визуальных практик. По его убеждению, в постиндустриальной современности поэты утратили роль «магических манипуляторов словом», которую они сохраняли с конца XIX века. Соответственно, в массовом обществе «статус и возможности поэзии включаться в актуальные социокультурные процессы и быть притом услышанной почти трагически уменьшилась и критически сократилась – как, впрочем, и всей серьезной литературы» («И пожрала… но не до конца! Не до конца?»). Особенно же скверной, по его мнению, была ситуация в России, где ностальгия старших поколений интеллигенции по временам «стадионной поэзии» оказалась соединена с отсутствием необходимой социальной и институциональной инфраструктуры:
…<Еще одна зона реальной активности поэзии –> специфическая поэзия, ориентированная на университетско-академическую среду, вроде американской «language school», имеющая своих читателей в интеллектуальных студенческо-академических кругах. Однако при нынешней неразвитости этой среды у нас, слабом ее влиянии на социокультурные процессы в стране, ее невысокой престижности и финансовой несостоятельности и вообще почти воинствующем антиинтеллектуализме в обществе понятно, что подобная поэзия вряд ли может иметь у нас достаточную аудиторию, существенно разнившуюся бы с аудиторией поэзии традиционной («Утешает ли нас это понимание?», 2003).
Однако, провозглашая столь пессимистическую, иногда даже пародийно-утрированную в своем пессимизме точку зрения, Пригов столь же последовательно намекал на то, что из этой ситуации, которая выглядит катастрофической с социологической точки зрения, может найтись непредусмотренный выход. Эссе об изменении социального статуса поэзии в современном обществе завершается пословицей, которую Пригов цитировал несколько раз по другим, но сходным поводам:
…у поэзии есть мощный аргумент и в ее нынешнем противостоянии массмедиа и поп-культуре и прочим соблазнителям слабых человеческих душ – он прекрасно сформулирован в замечательной немецкой поговорке: «Говно не может быть невкусным, миллионы мух не могут ошибиться» (там же).
Эмоциональная диспозиция, которая стояла за этими ламентациями, неожиданно похожа на диспозицию, на которой были основаны столь же пессимистические выступления М.Л. Гаспарова в 1990—2000-х годах. Автор словно бы взывает: докажите мне, что все, может быть, не так плохо, потому что сам я этому доказательств найти не могу. И Гаспаров, и Пригов прилагали усилия к тому, чтобы опровергнуть свои пессимистические выводы. Для Гаспарова таким способом самоопровержения стали «Записи и выписки» и научные работы, в которых он демонстрировал историческую и культурно-психологическую «несводимость» того или иного литературного произведения к современным ожиданиям (следовательно, и сегодняшний пессимизм – по этой логике – может оказаться исторически ограниченным[11 - См. об этом типе поздних работ Гаспарова раздел «Личность» в статье: Дмитриев А., Кукулин И., Майофис М. Занимательный М.Л. Гаспаров: академик-еретик («Антиюбилейное приношение» редакции «НЛО») // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. С. 170-178.]), а у Пригова – собственное творчество. Он последовательно ставил вопрос о создании новых форм поэзии и, более того, о возможности антропологической утопии, решающей задачу создания такого художника и такого строя художнической души, которые могли бы преодолеть или, точнее, переиграть тупиковую ситуацию в культуре, «кризис нынешнего состояния» (из беседы Пригова с А. Парщиковым).
Надо заметить, что суждения Пригова о состоянии литературы всегда сопряжены с оглядкой на изобразительное искусство, которое представляется Пригову куда более динамичным образцом современной культуры, чем литературная деятельность:
Если литература, даже самая продвинутая и радикальная, по-прежнему обитает в пределах текста и традиционных жанров, то изобразительное искусство давно преодолело доминацию текста над культурно-эстетическими жестами художника и стратегией артистического поведения, освоила и разработала способы работы с ними, презентации и музеефикации их <…> В изобразительном искусстве объявилось огромное количество неконвенциональных жанров (объект, инсталляция, инвайронмент, вербальные тексты, хэппенинги, перформансы, акции, мейл-арт, видео, фото, компьютерные инсталляции, проекты), по своим признакам совсем уже не укладывающихся в привычные рамки и прежнее понятие изобразительного искусства, но безоговорочно доминирующих ныне. Все же новации в пределах литературы, типа визуализации, перформансов и акций, до сих пор не абсорбируются ни литературным рынком, ни литературной средой… («Альтернатива» 2005).
Поэзию Пригов постоянно подозревал в том, что весь ее потенциал воздействия в современном мире соответствует не новаторским, а архаическим уровням культуры, – но не отвергал из-за этого поэзию как таковую, а стремился ее революционизировать, словно бы заново изобрести[12 - Об этом стремлении Пригова одним из первых упомянул поэт и филолог Сергей Завьялов в предисловии к сборнику своих стихотворений «Мелика» (М.: АРГО-Риск, 1998). Завьялов неожиданно – но, на наш взгляд, продуктивно – сравнил в этом предисловии концептуалистов (при этом только Пригова он процитировал персонально) с христианскими реформаторами греческой поэзии в ранней Византии, полностью изменившими не только мировоззренческие основы тогдашней поэзии, но и ее метрическую систему.].
Свое место в культуре Пригов видит на границе между словесным и визуальным искусством, определяя свою работу как «повышение проходимости этой границы», хотя в то же время, замечает он, «надо следить, чтобы она полностью и не смывалась, так как исчезнет основное напряжение моей деятельности» («Одна, словесная, сторона дела», 1991). Развивая эту мысль, он говорит об обращениях к тексту как к элементу визуальной выразительности, известных по историческому авангарду, о «миграции А. Монастырского из поэзии в сферу концептуальных акций», о «бытовании Рубинштейна на мерцающей границе текстов как актов литературы и как манипулятивных объектов» – и, наконец, о своих собственных «опытах в сфере визуальных, манипулятивных и сонорно-перформансных (бывают и такие, Господи!) текстов» (там же). Но главное воздействие опыта изобразительного искусства на литературу он видит именно в «работе с имиджами» – то есть в перформатизме:
Именно имиджевый и поведенческий уровень на данный момент является местом объявления и предельным проявлением позы современного художника <…> объемлющим все сферы художнической деятельности, так как нынешнее искусство вообще имеет тенденции к развеществлению границ жанров и видов и порождению новых жанров, не определяемых и не ранжируемых по старым классификациям, – например, инсталляция, инвайронмент, перформанс, акция, боди-арт, лэнд-арт, видео-арт и др. («Интеграл дрожащий», 1994)
Пригов скептически относится и к попыткам найти новое «место» поэзии в интернете, и в «остроумных откликах на актуальные события», то есть в оперативной поэтической сатире: «…проблема не в том, что они шуткуют и задействуют самые нехитрые пласты поэтического арсенала, а в том, что они <…> угадываемы моментально»; «сатирики-юмористы» от поэзии находятся, по его мнению, «в большинстве своем за пределами культурной вменяемости» («И пожрала… но не до конца! Не до конца?»).
Перечисляя функции поэзии – ответ на потребности людей «с неординарным ощущением языка», воплощение любви к языковым играм, отсылка к «атавистическим корням древних магическо-мантрических практик», обеспечивающая «длинную» историко-культурную память, шлифовку языка, – Пригов настаивает: «поэзия – это не только тексты, но специфический способ выстраивания и явления обществу значимых типов культурного, в данном случае – поэтического, поведения» (там же). И если это действительно так, то существование поэзии не зависит от числа ее читателей, а является необходимой составляющей культуры, которая все время ищет и подвергает испытаниям новые субъектности. Служить «лабораторией» и «испытательным» полигоном новых типов личности и личностного самовыражения – это и есть та «неистребимая антропологическая функция, сверхзадача» поэзии, которая если даже и перейдет к «другим сферам и областям культурной человеческой деятельности», то «непривычная, она явится нам и прошепчет магические слова пароля, моментально узнаваемого и моментально по нему узнаваемая». Но это, добавляет Пригов, «уж очень невероятный сценарий. А если и вероятный, то в невероятном временном удалении» (там же).
ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР
Особенность приговского теоретизирования состоит в том, что с его помощью Пригов артикулирует и (квази)исторически обосновывает логику исповедуемой им эстетики. Как и многие авангардисты, он подчиняет эволюцию мировой культуры тому, что считает ее вершиной, – творчеству тех современников, которые были близки ему самому. Иначе говоря, он проецирует свою теоретическую концепцию (она же – «программа работ», если пользоваться выражением Льва Рубинштейна) на историю, тем самым представляя проповедуемое им искусство, основанное в первую очередь на поведенческих стратегиях, как итог всей культурной эволюции.
Пригов выстраивает свою теорию культуры вокруг того, как в культуре моделируется фигура самого художника.
В центре приговской типологии культуры лежит представление о «больших драматургических взаимоотношениях культуры и творческой личности». При этом творческая личность всегда отвоевывает новые культурные территории и, условно говоря, стоит на границе важнейших для данной культуры (в приговском понимании, конечно) оппозиций. Для Пригова крайне важна «драматургия» как теоретический концепт: под ним понимаются поле конфликта, внутренних напряжений культуры, из которых только и может родиться новизна.
В манифестах конца 1980-х начала 1990-х Пригов утверждал, что в разные эпохи в искусстве поочередно приобретали то большую, то меньшую значимость разные уровни произведения: «идейно-мировоззренческий, сюжетно-содержательный, образно-метафорический, конструктивно-версификационный, культурно-ассоциативный и экзистенциально-творческий. <…> В разные времена на поверхности вод появлялся какой-нибудь позвонок этого огромного позвоночника». Преобладающее влияние того или иного «позвонка», определяло «большой стиль» эпохи. Современная же эпоха отменяет саму идею подобного сменяющегося доминирования уровней, так как допускает сосуществование разных стилей – «…художник прочитывается на метауровне как некое пространство, на котором сходятся языки» («Переписка Д.А. Пригова и Ры Никоновой»).
В текстах конца 1990-х – начала 2000-х годов Пригов говорит о том, что сегодня происходит завершение четырех крупных социально-культурных «проектов». Первый, возрожденческий, основан на оппозиции «автор – не-автор»: автор заявляет свое право на индивидуальное творчество, отвоевывая его у анонимной традиционалистской парадигмы. Просвещенческий проект прибавляет к возрожденческому образу художника-титана новую составляющую – учителя, просветителя и мудреца. Основным содержанием авторства для этого типа культуры становятся правда и/или знание, противостоящие лжи властей и невежеству масс. Следующий проект – романтический. В этом проекте художник обретает функцию медиатора между «высоким» и «низким», хотя наполнение этих категорий у каждого автора может быть своим: «Хлебников представлял себя посредником между древними глубинными тайнами языка и повседневностью речи. Маяковский – между высшей энергией социального бунта и банальностью обыденной жизни» («Что делается? Что у нас делается? Что делать-то будем?», 2000)
Наконец, четвертый проект – авангардный. Его основа – преодоление оппозиции «искусство – не искусство»: «основная драматургия авангардного типа поведения… была явлена в постоянном расширении зоны искусства, пока зоны неискусства не осталось. То есть зоной искусства оказались все возможные сферы манифестации художника с доминирующим назначающим жестом» («Вторая сакро-куляризация», 1990).
Внутри этой «драматургии» Пригов выделяет три «возраста» авангарда. Первый – «футуристически-конструктивный», он связан с «вычленением предельных онтологических единиц текста» и вычислением «истинных законов построения истинных вещей». Частью этой стратегии является «переход художников в сферу практической и социальной деятельности». Именно эта стратегия, как считает Пригов, послужила идеологическим и психологическим основанием тоталитарной культуры, которая перевела авангардные принципы на макроуровень, «обнаружив и объявив “большие” онтологические единицы текста, как бы макромолекулы, которыми можно оперировать как ненарушаемыми» (там же), – с той же легкостью, как авангардисты работали с единицами языка, например: «классицистическая традиция, гуманистическая философия, магическая практика». В переводе на более привычный язык это значит, что тоталитарные режимы ХХ века объявляли себя преемниками прежних культурных эпох, но в своих отсылках к этим эпохам превращали любые определения «больших» идей и стилей в пустые означающие. Здесь Пригов отчасти идет за Борисом Гройсом, который считает авангардистов прямыми предшественниками тоталитарных систем[13 - См.: Гройс Б. Стиль Сталин // Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993.], но сменяет оптику: с политической – на культурно-психологическую.
Второй «возраст» – абсурдистский, выявивший «абсурдность всех уровней языка, не детерминированного никакими общими закономерностями, ни общей памятью, ни общедействующими операциональными законами» (там же). «В сфере социальной рефлексии» абсурдизм стал «отрицательной реакцией на претензии государства» быть рациональным проектировщиком жизни для всех людей.
Наконец, третий возраст идентифицируется как «поп-артистско-концептуальный» и выступает в качестве псевдодиалектического синтеза двух предыдущих возрастов: «Пафосом третьего периода стало утверждение истинности каждого языка в пределах его аксиоматики <…> и объявление его неистинности, тоталитарных амбиций в попытках выйти за пределы и покрыть весь мир собой» (там же). Именно в этот период эволюции авангарда художник «оказывается в метаязыковой зоне операционального уровня», что порождает смешение разных видов искусств, различия между которыми «отменяются на уровне авторской языковой поведенческой модели» (там же). Как Пригов говорит в одном из бесед с С. Шаповалом: «Только с концептуализмом пришел менталитет не текстовой, а операциональный, когда представители литературы не надстраивали новый стилистический слой, а представили динамическую модель. Для них все слои стали персонажами[14 - Пригов Д. Шаповал С. Портретная галерея Д.А.П. М.: НЛО, 2003. С. 16.]».
Именно здесь наступает «конец текстоцентризма» и приходит время перформатизма: литература становится «ресурсом текстового и персонажного цитирования», а «операция, синоним жеста» берет на себя роль «единицы текста». В этой культурной среде актуальные стратегии разворачиваются на границах различных жанров и видов искусств, в результате чего и формируется произведение искусства нового типа – «как бы эдакий современный гезамкунстверк» [15 - Об отношении Пригова к концепции целостного, или тотального, произведения искусства (Gesamtkunstwerk), восходящей к Рихарду Вагнеру, см. подробнее в статье Евгения Добренко: Dobrenko E. Prigov and the Gesamtkunstwerk // The Russian Review. V. 75. Issue 2 (April 2016). P. 209-219. См. также: Кукулин И. Явление русского модерна современному литератору: четыре романа Д.А. Пригова // Неканонический классик: Д.А. Пригов (1940 2007) / Под ред. Е. Добренко, И. Кукулина, М. Липовецкого, М. Майофис. М.: НЛО, 2010. С. 566-611.] («Третье переписывание мира», 2003).
Впрочем, начиная с конца 1990-х годов Пригов обдумывает и более радикальные сценарии культурной эволюции, которые выходят за пределы ее «антропологических» очертаний.
АВАНГАРДНЫЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ: НОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Теоретические идеи Пригова, в сочетании с его эстетической практикой, невозможно однозначно вписать ни в авангардную, ни в постмодернистскую парадигму. Перед нами очень своеобразный (хотя и не уникальный) гибрид – не то авангардный постмодернизм, не то постмодерный авангард.
С авангардом Пригова роднит настойчивый поиск новизны, а вернее, новой эстетической драматургии. С конца 1980-х годов Пригов неоднократно писал о том, что во второй половине ХХ и начале XXI века поколения в культуре сменяют друг друга гораздо быстрее, чем прежде. По мысли Пригова, если в прошлом любой стиль воспроизводился на протяжении жизни нескольких поколений, то в новейшей истории обновление эстетических идей, формирующих новую стилистику, происходит каждые 5–7 лет. Поэтому слово «поколение» в современном искусстве берет свой смысл не из демографического, а скорее из научно-технического, инженерного языка: «поколение» в искусстве ныне отсылает не к представлению о сменяющихся каждые 20–30 лет социальных генерациях, а скорее к метафоре «компьютер (или самолет) нового поколения».