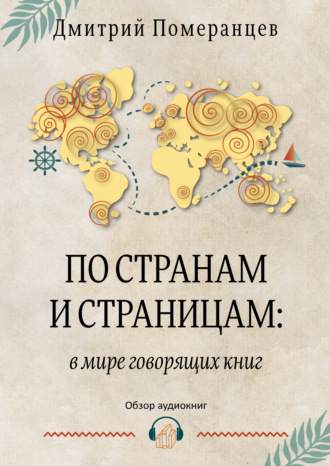
По странам и страницам: в мире говорящих книг. Обзор аудиокниг
Честно говоря, было у меня опасение, что роман «Дом, в котором…» не так поймут. Что воспримут как обычный масслит, 3D-шную бродилку-квест, подростковую фэнтези: налепят фанфиков, навыпускают компьютерных игрушек, а то еще и ролевики к делу подключатся… К счастью, обошлось. Видимо, сработало то обстоятельство, что автор сделала своих героев неприкасаемыми, изгоями, находящимися вне каст и классов париями. Трудно судить, насколько осознанным был этот шаг, но он, безусловно, уберег «Дом» от чрезмерной и абсолютно ему не нужной коммерциализации. Одно дело наряжаться эльфами, гномами или даже орками. А вы попробуйте перевоплотиться в слепого, безрукого (не путать с Сергеем Безруковым – в этого-то всегда пожалуйста – он и сам в кого хочешь перевоплотится) или, скажем, в инвалида-колясочника. Как-то не хочется, да?
Вернемся к тому, с чего начали. На самом деле герои Петросян не нуждаются в жалости, по ним не надо – да просто не получится – лить слезы! Они не убогие, не инвалиды, не бедные сиротки, брошенные кукушками-родителями. Они – сверхсущества. Но дальше – тс-с-с-с! Прочее уже будет спойлером.
Скажу лишь, что, добежав до конца этого марафона, замер, балансируя, будто на краю пропасти. А в голове гулко стучало: «И это – все? А как же дальше?» Потому что азарта, запала, набранной инерции хватило бы еще на одну такую же книгу. Или даже не на одну. Но Мариам Петросян заявила однозначно: продолжений и вообще других книг не будет. И пока слово свое держит (представляю, как выкручивали ей руки издатели!). Держит и, надеюсь, сдержит. А в глубине души чей-то тихий голосок малодушно шепчет: «А может? А вдруг? Ну что ей, жалко, что ли?»…
Отдельное спасибо Игорю Князеву: здорово читает, ничего не скажешь. Пробубни тот же текст какой-нибудь другой диктор – всю бы магию убил. А тут – что доктор прописал.
Всего на данный момент существуют четыре аудиоверсии романа. Кроме вышеназванного Игоря Князева, книгу озвучили Ирина Ерисанова, Albert Kramer (в Сети его имя пишется именно так, а псевдоним это или просто латинская транскрипция настоящего имени, судить не берусь) и, наконец, известная телеведущая и диджей Тутта Ларсен (в миру – Татьяна Романенко). Каждый из вариантов имеет свои неоспоримые преимущества, поэтому рекомендовать какой-либо из них в пику всем остальным не стану. Слушайте сами, выбирайте, читайте.
Abre los ojos
Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза. – М.: АСТ, 2015Abre los ojos в переводе с испанского означает: «Открой глаза». Так называется один из фильмов режиссера Алехандро Аменабара. Впрочем, по сложившейся уже традиции ни сама кинолента, ни ее создатель не имеют ровным счетом никакого отношения (за исключением некоторого созвучия названий) к теме нашего сегодняшнего общения. А тема эта – дебютный роман молодой россиянки Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Книга эта в буквальном смысле взорвала общие представления о современной отечественной литературе – о целях ее и задачах, о масштабах и возможностях. Что собой представлял написанный по-русски роман XXI века? В лучшем случае – грамотно составленный текст, рассчитанный на определенный, не слишком широкий круг читателей, критиков, ученых-филологов и т. д. Выйдет такая книга тиражом не более 3000 экземпляров, разойдется (чаще всего – не полностью), промелькнет несколько раз в литературных обзорах – и все. В самом лучшем случае автор получит какую-нибудь премию, даст пару интервью, поучаствует в нескольких встречах с читателями, где подпишет с десяток-другой своих томиков. Однако итог будет тот же: очередная строчка в библиографии дописана, можно ставить точку и нажимать на Enter.
А что сделала Яхина? Да ничего особенного. Написала роман. Постучалась с ним в несколько издательств, где его (наверняка не читая) благополучно отвергли, наконец пристроила в провинциальный «толстый» журнал «Сибирские огни», да и то не полностью, в виде отдельных глав. Чтоб вы знали: тираж таких журналов чаще всего не дотягивает и до тысячи экземпляров, гонорары если и выплачиваются, то едва ли превышают месячное пособие многодетным семьям, а распространение ведется в основном по пыльным хранилищам периодики областных библиотек. Словом, тут бы и быть «Зулейхе» навек погребенной заживо, не вмешайся Его Величество Случай. Неким волшебным образом рукопись попала в руки известной литературной статс-даме Людмиле Улицкой, та решила прикинуть на себя роль феи-крестной и порекомендовала текст издателям.
А дальше все как у Харпер Ли с ее «Пересмешником». Наутро Гузель Яхина проснулась знаменитой, а ее роман до сих пор считается непревзойденным по яркости литературным стартом. Издательству даже тратиться особо на раскрутку не пришлось: книга в прямом смысле пошла по рукам, сама себя рекламируя.
Механизм распространения оказался невероятно прост: прочтет роман какой-нибудь представитель вымирающей фауны читателей и с вытаращенными глазами начинает бегать в поисках себе подобных, чтобы чуть ли не насильно впихнуть, ткнуть носом – читай, оно того стоит!
Две самые престижные литературные премии России «Большая книга» и «Ясная Поляна» были всего лишь следствием, но никак не причиной этого ажиотажа. Просто было бы по меньшей мере странно, если бы не дали: книга была настолько очевидно хороша, да и читатели за нее проголосовали рублем, буквально сметя первый тираж с прилавков. Странно, что не дали еще и «Национальный бестселлер», – кажется, просто не успели выдвинуть книгу на соискание.
Поделюсь собственным читательским опытом. Прослушав книгу в аудиоформате, тут же заразился общей эйфорией и купил бумажное издание – чтобы было чего подсовывать друзьям и родственникам. И книга тотчас ушла «в народ» на долгие месяцы, не задерживаясь в одних руках дольше нескольких суток – обычно этого людям хватало, чтобы проглотить пятисотстраничный том. И не было ни одного случая, чтобы кто-то бросил чтение или выразил неудовольствие и разочарование по поводу прочитанного.
Более всего это напоминало эпидемию или стихийное бедствие. Оно расходилось концентрическими кругами, распространялось в геометрической прогрессии: число людей, пострадавших от урагана или, если угодно, вируса по имени «Зулейха», росло с каждым днем, каждым часом. Никакой Донцовой или Марининой подобный успех не мог и присниться. Их целевая аудитория давно была просчитана и приручена издателями. Невозможно себе представить, чтобы за похождениями гения частного сыска Даши Васильевой с волнением и напряжением мог бы следить, скажем, преподаватель вуза или рабочий-сталевар.
А вот «Зулейху» читали все. И продолжают читать. И главы холдингов, и офисный планктон. И работники правоохранительных органов, и представители криминальных структур. И пионеры, и пенсионеры. И продвинутые интеллектуалы, и те, кто печатное издание в руках последний раз в школе держал.
И дело не в том, что книга оказалась в тренде (интересно, слово «трындеть» отсюда произошло?), просто автор как-то сумела тронуть именно те струны, которые имеются в душе каждого человека. Независимо от его национальной, социальной, возрастной, конфессиональной, гендерной и прочих принадлежностей.
О трагедии трудового крестьянства в годы коллективизации у нас писали многие (Гузель Яхина даже с Михаилом Шолоховым на сей счет умудрилась заочно перемигнуться, введя в свое повествование одного из ключевых персонажей «Поднятой целины»). Однако еще никому из авторов не удавалось вызвать такого сильного эмоционального отклика у читателей. Сразу несколько моих знакомых, прочитав «Зулейху», увидели и узнали в ней историю своих предков.
Роман можно условно разделить на три неравные части: жизнь героини до раскулачивания, дорога к месту ссылки и, собственно, само лагерное бытие. Некоторые критики упрекали автора в недостаточном сгущении красок при описании ГУЛАГа: дескать, на фоне того, что Зулейхе довелось пережить в доме мужа, ужасы сталинских лагерей кажутся какими-то нестрашными. Тут как раз не вижу никаких противоречий: очень даже часто случается, что свобода внешняя и свобода внутренняя не совпадают во времени и пространстве. И можно быть рабыней в собственном доме, имея статус добропорядочной жены и вполне себе обеспеченной хозяйки, и, наоборот, осознать себя как гордую и независимую личность, только лишившись всех прав и состояний и оказавшись на краю света и гибели.
Лично мне больше всего понравилась часть третья. Очень уж хорошо удалась автору история создания поселка Семрук – своего рода таежная робинзонада, заставившая вспомнить любимые с детства книги: «Дикий урман» Анатолия Севастьянова, «Черничные глазки» Федора Кнорре, «Дерсу Узала» Владимира Арсеньева, а также повести и романы Григория Федосеева.
Злые языки из числа все тех же румяных критиков и тут нашли, к чему придраться: автор-де – городская барышня, тайгу кирзачами не топтала, костров с одной спички не зажигала, рыбу руками не ловила. Откуда ей знать про лесное житье-бытье? Претензия, на мой взгляд, абсурдная. Открою страшную тайну: Пушкин не жил во времена Пугачева, а мсье Жюль Верн практически никуда не выходил из своего кабинета и ни на Северном полюсе вместе с капитаном Гаттерасом, ни в Экваториальной Африке вместе с пятнадцатилетним капитаном Диком Сэндом побывать просто физически не мог. Все свои путешествия в пространстве и времени большинство писателей совершают силой своего творческого воображения. Автору «Зулейхи» такое путешествие, на мой вкус и цвет, удалось. Она не только сама вместе со своими героями умудрилась пережить суровую зиму в далекой тайге – она еще и десятки, если не сотни тысяч читателей с собой туда прихватила. Кстати, не знаю, каков к настоящему времени суммарный тираж романа, но тот факт, что книга уже переведена на два десятка языков, говорит сам за себя. Похоже, жизнь и судьба молодой татарской крестьянки не оставили равнодушными не только наших соотечественников.
Гузель Яхина не задерживает чересчур пристального читательского внимания на внешности своей героини. Портрет Зулейхи мы создаем сами – сплетаем из немногих оброненных героиней слов, ее поступков и жестов, а чаще всего – пассивного бездействия, постоянной готовности принять внешний мир и раствориться в нем с одновременной замкнутостью внутри себя самой. Лично мне почему-то героиня представлялась не классической дочерью Востока, жгучей брюнеткой с пылающим взором черных глаз, но чем-то нашим, волжским, почти русским – русоволосым и ясноглазым, тихим, как лесной ручей (не зря же в самом начале книги Зулейха обращается к местному лешаку – шурале). Словом, представлял себе на месте главной героини этакую… Чулпан Хаматову. Кроме шуток. Потому и не удивился, когда узнал об экранизации и выборе актрисы на главную роль. Как-то убедила меня Гузель Яхина, уговорила исподволь, что именно так ее Зулейха и выглядит. И никак иначе. Все-таки сценаристка по образованию, что вы хотите. Владеет искусством вербальной визуализации.
В заключение несколько слов об аудиокнигах. Роман «Зулейха открывает глаза» примерно в одно и то же время озвучили три исполнителя: Ирина Воробьева, Елена Калабина и Фирдаус Ганеева. Профессионализм чтиц во всех трех случаях сомнений не вызывает. Качество записи чуть получше в первых двух случаях (а во втором еще и музыкальное сопровождение присутствует), зато в третьем не приходится сомневаться в том, что имена собственные и специфические национальные термины вроде татарского лешего шурале будут произнесены с правильным ударением и артикуляцией. Лично мне больше понравилось прочтение Ирины Воробьевой, но моего мнения никому не навязываю. Более того, книга заслуживает неоднократного прочтения – так отчего бы не послушать ее в разных исполнениях? Кстати, существует также запись романа в переводе на татарский язык (текст читает Алия Калимуллина). Ради интереса включил и послушал. Практически ни слова не понял, кроме имен и фамилий, но до чего же красиво звучит!
Он читал стихи коровам, те давали молоко… и мясо
Кадзуо Исигуро. Не отпускай меня / Перев. с англ. Леонида Мотылева. – М.: Эксмо, 2007Сегодня хочу поговорить о творчестве английского писателя японского происхождения, лауреата Букеровской и Нобелевской премий Кадзуо Исигуро. Этот автор не страдает чрезмерной плодовитостью, выдавая в среднем по роману в пятилетку, но зато качество его текстов столь высоко, что те вполне могут служить эталоном для других писателей. Это добротная, вкусная, породистая английская проза с терпкой примесью восточной ментальности. Исигуро – безукоризненный джентльмен и одновременно – исполненный достоинства и стоицизма самурай. Каждая его книга по-своему хороша и не похожа на остальные. Однако вершиной творчества Исигуро – самым-самым его романом, на мой взгляд, является «Не отпускай меня». Вот о нем и побеседуем.
Начну с того, что это самая пронзительная, трогательная и самая страшная книга из прочитанных мною за последние годы. «Не отпускай меня» не отпускала меня до последних страниц, не отпускает сейчас и, пожалуй, не отпустит еще довольно продолжительное время.
Романы такого плана принято называть «душераздирающими» – рассказываемые в них истории волнуют читателей, вопиют к их сердцам, и чем беззвучней, чем сдавленней этот вопль, тем верней и громче рвутся души, тем большим количеством крови обливаются читательские сердца.
На первый взгляд, ничего необычного в этой книге нет. Классический английский роман воспитания. Детство, отрочество, юность. Привилегированная закрытая школа. Первый опыт самопознания. Дружба и предательство. Первые уроки жизни. Первая встреча с Прекрасным. Первая любовь. Однако с первых же страниц над невинными головами юных героев довлеет какая-то страшная тайна. Странные оговорки взрослых. Странное поведение некоторых учителей. Странный запрет на любые разговоры о будущем. И какая-то неясная угроза на горизонте.
Читатель теряется в догадках. Дети неизлечимо больны? Или сама эта школа – не то, чем кажется, за что пытается себя выдать. Правда, как водится, оказывается куда хуже любого предположения. Человечество борется с неизлечимыми болезнями, пытается отстоять у смерти самое слабое, самое уязвимое свое звено – плоть. О душе вопрос тоже поднимается, но об этом чуть позже. Итак, люди воюют со смертью, и, как во всякой войне, им нужны боеприпасы, в роли коих выступают… донорские органы. Читатели, разумеется, в шоке: элитное учебное заведение оказалось инкубатором, где детей, словно бойлеров, растят на мясо.
Не торопитесь бросать в меня камни, мол, что за нехороший человек, зачем все рассказал, убил интригу, теперь читать будет неинтересно. Читать будет интересно, ибо главный интерес книги не в том, ЧТО написано, а в том, КАК это сделано. Та же история под пером другого автора запросто обратилась бы в третьесортный триллер, страшилку для скучающего обывателя, закисающего от недостатка переживаний. Но Исигуро показал себя истинным мастером, виртуозом, и как у всякого автора высокой пробы, сюжет у него играет не главную, но всего лишь вспомогательную роль. Ну, не бывает книг совсем без сюжета – даже в телефонном справочнике какой-то должен присутствовать. Главное же в романе – те вопросы, которые принято называть «вечными» или «проклятыми». Например, есть ли у человека душа? На этот вопрос, применительно к своим питомцам, пытаются дать ответ отцы-основатели, верней, матери-основательницы нашего зловещего интерната. Ведь не из одного только ложного гуманизма (хотя и из него тоже) детей растят не в изгвазданных навозом стойлах, не в клетках, но в уютных дортуарах, и стремятся вырастить не просто качественными наборами здоровых органов для последующей пересадки, но самостоятельными, думающими личностями, чуткими к искусству, с развитыми творческими наклонностями. Что это? Особо утонченное, изощренное издевательство? Необыкновенный фашизм? Ну что вы, разумеется, нет! Педагогами движет благороднейшее намеренье доказать обществу, увязшему в погоне за собственным здоровьем и долголетием, что у этих обреченных малюток тоже есть душа, что они тоже люди. Право же, этих достойных последователей и продолжателей дела Песталоцци, Макаренко и Ушинского практически не в чем упрекнуть. Они, конечно, в отличие от Корчака, не последуют за своими воспитанниками в печь крематория, но на свой лад вполне облегчают и улучшают их недолгий жизненный путь, делают его более достойным и осознанным.
Вот только что на сей счет думают сами дети? Особенно когда подрастут? Каковы их собственные помыслы, их желания и стремления? Вот тут-то и настает в книге момент, который один мой знакомый неграмотно, но очень верно назвал «катараксисом». Озарение. Прозрение. Называйте как хотите, дело не в термине, а в том, что роман Исигуро принадлежит к той славной плеяде книг, после которых уже никто и ничто не будет прежним – ни сам читатель, ни окружающий его мир, подвергшийся в процессе чтения основательной и весьма жесткой переоценке.
Роман Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» существует в двух аудиоверсиях: от Ирины Ерисановой и Игоря Князева (так же, к слову, как и недавно нами рассмотренная книга Мариам Петросян «Дом, в котором…»). Оба диктора широко известны и в дополнительных представлениях не нуждаются. Кого из них предпочесть – выбирайте сами. Можно, к примеру, прибегнуть к фэншую: читателям мужского пола выбрать женский голос и наоборот. По мне, так оба чтеца замечательно хороши и со своей задачей справились просто блестяще.
Чума на оба ваших чума!
Габриэль Гарсиа Маркес. Любовь во время чумы / Перев. с исп. Людмилы Синянской. – СПб.: Звезда, 2001Как говорится, любви все возрасты покорны. Честно говоря, собирался сегодня обсудить совсем другую книгу совершенно другого автора, а потом глянул на календарь – ба! 14 февраля на дворе! Да, не наш праздник. Да, идеологически, духовно и конфессионально нам чуждый. Однако влюбляться люди реже не стали. И правит миром по-прежнему не один только голод. А посему в срочном порядке пришлось внести коррективы в список претендентов на обсуждение и заменить серьезный, актуальный и донельзя раскрученный текст на… любовный роман.
Впрочем, выбор пал не абы на что, но на шедевр классика XX и XXI веков, колумбийского писателя-нобелиата Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы».
Традиционно считается, что знакомство с творчеством данного автора надлежит начинать с романа «Сто лет одиночества» или повести «Полковнику никто не пишет». На самом деле это так и не так, потому что кусать этот роскошный пирог можно с любого бока – везде будет вкусно (ну, или как минимум не отравитесь). «Любовь» же, по моему глубокому убеждению, это такая вишенка на торте, которую можно, конечно, и в конце, но если сначала, то аппетит не перебьете, но, напротив, нагуляете.
Перефразируя Салмана Рушди, позволю себе немного выспренно заметить, что эта книга настолько хороша, что даже некоторые хорошие книги рядом с ней кажутся плохими. Блестящий, вдохновенный мифопоэтический гимн вечной любви! И если кто-то скажет, что такой любви не бывает, что автор хватил через край, мне жаль того человека…
Гарсиа Маркес, как всегда, бесподобен и узнаваем: книга тонко стилизована под французский роман позапрошлого века, однако младенцев на его страницах носят в птичьих клетках, а снедаемый страстью герой в огромных количествах поедает… лепестки роз. Дабы почувствовать вкус любимой.
Перевод Людмилы Синянской, на мой взгляд, изумителен, как и все, что она делает (вспомним хотя бы «Игру в классики» Хулио Кортасара). А что до неточности в диагнозе, то да, в оригинале у автора была холера, но так уж повелось у нас со времен Александра Сергеевича, милого, – с легкой его руки – называть эту хворь чумой (интересно, что призывал на оба наших дома Шекспир в оригинале «Ромео и Джульетты»?). И не беда, что подробно описанные в книге симптомы указывают именно на холеру, на что справедливо обратили внимание некоторые бдительные читатели и критики. В конце концов, это магический реализм, а не выписка из истории болезни, а переводчику за то, что следовала традициям великой русской литературы, честь и хвала!
«Любовь во время чумы» – шедевр, истинное украшение мировой литературы.
Обычно говорят: начали за здравие, кончили за упокой. Гарсиа Маркес поступил с точностью до наоборот. Его роман открывает удручающая и печальная сцена самоубийства старого одинокого ветерана-инвалида. Зато в финале… Впрочем, на сем Шахерезада прерывает дозволенные речи. Читайте и обрящете!
Роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы», как и многие другие шедевры великого колумбийца, прочитал Игорь Князев. Не буду рассыпать алмазы моего красноречия по поводу чтеца. И зрячее, и незрячее читающие сообщества и без того его прекрасно знают. По мне, так всем нам, любителям аудиокниг, давно пора скинуться и если не бюст на родине, как дважды Герою Соцтруда, установить, так хотя бы купить Игорю большую-пребольшую шоколадку. Возможно даже (пуркуа бы и не па?), в форме сердца.
Наши деды – славные победы
Борис Алмазов. Посмотрите – я расту. – М.: Самокат, 2014Борис Алмазов. Филиппон – праправнук атамана. – М.: 1С-Паблишинг, 2016В преддверии Дня защитника Отечества или, на прежний лад, Дня Советской армии и Военно-морского флота захотелось чего-то патриотического, духоподъемного. Однако вспомнились при этом не повести Бондарева и Бакланова, не романы Богомолова и Астафьева, а сборник детских повестей Бориса Алмазова «Белый шиповник», не имеющий, на первый взгляд, прямого отношения ни к войне, ни к армии. За исключением первой повести «Посмотрите – я расту», рассказывающей о трудностях послевоенного детства, о том, какие жертвы пришлось принести на алтарь Победы – как до весны 1945 года, так и после нее. Повесть эту нашел недавно в виде отдельного издания с хорошими иллюстрациями и купил для сына, которому сейчас восемь. Пусть читает. Желательно – вслух. Такие книги читать и перечитывать никогда не рано и не поздно. Ни маленьким, ни взрослым.
Что же касается «Белого шиповника», то сборник этот имелся в домашней библиотеке у моего друга и одноклассника Жени Константинова. И читали его (книгу, а не одноклассника) всем классом – по очереди. Было такое время, когда читали все: и школьные активисты с отличниками, и хулиганы с двоечниками, и университетские профессора с академиками, и простые электрики с сантехниками.
Однако сегодня хочу поговорить не о детских повестях Бориса Алмазова, но о вполне взрослом его произведении – небольшой повести или скорей киносценарии «Филиппон – праправнук атамана». Итак. Наши, примерно, дни. Точнее сказать, самый разгар лихих 90-х. В казачью станицу на Кубани в гости к деду и бабке приезжает 18-летний внук – приверженец одной из молодежных субкультур. При этом движет им отнюдь не стремление навестить родных, не поиск собственных корней или самоидентичности, но неуклонно и грозно надвигающаяся перспектива угодить под осенний призыв, поскольку с высшим образованием у недоросля отношения откровенно не сложились.
О том, что было дальше, догадывайтесь сами, но лучше все-таки почитайте.
От себя добавлю, что более смешной, уморительно смешной и вместе с тем – очень грустной и серьезной книги не читал уже не помню как давно.
И еще: несмотря на скромный объем (всего около двух часов), повесть представляет собой самый настоящий казачий эпос в духе книг Михаила Шолохова, Константина Седых, Григория Мирошниченко и прочих.
Даже жаль, что автор не развернул это полотно страниц на 500. Хотя и на том, что есть, спасибо. А то от избытка такого веселья как бы худо не стало. Смех, конечно, жизнь продляет, но только до определенных пределов.
Не буду подробно останавливаться на персонажах. Писатель и сам их весьма ярко представил в начале повествования. Не стану задерживаться и на хитросплетениях сюжета – повесть не настолько велика, чтобы ее пересказывать, да и лучше автора мне все равно не сказать.
Замолвлю лишь пару слов за одного – отнюдь не самого главного героя – самого маленького, почти незаметного и абсолютно безмолвного. По отсутствующему пока паспорту этого карапуза зовут Сергеем, но окружающие, да и сам повествователь называют его исключительно Устрицей. Почему? Прочтете – узнаете. Лично меня этот загадочный псевдоним заставил вспомнить «Поднятую целину» Шолохова. Была там сцена, где дед Щукарь накормил колхозников неким мясным деликатесом, за который французы бы его в обе щеки расцеловали, а вот колхозники сих кулинарных изысков почему-то не оценили. Дед Щукарь тогда с перепугу аттестовал свой неожиданный приварок именно этим двустворчатым моллюском: «Вустрица, русским языком вам говорю! Лягушка – мразь, а в вустрице благородные кровя!»
Так вот, алмазовский Устрица – наивный, смешной, всепроникающий и бесконечно любопытный – это такой юный дед Щукарь, без которого, как говорил мой отец, «кина бы не было». Точней, было бы, наверное, но уже не такое – веселое и грустное, доброе и героическое одновременно.
Ну, а теперь меня, вероятно, спросят: при чем же здесь 23 февраля? У тех, кто прочтет данную повесть, отпадет необходимость задавать подобные вопросы. Потому что всякий казак – это прежде всего воин. А всякая казачка – его верная боевая подруга. И ни одно звено в казачьем роду не должно дать слабину, иначе позор падет на все потомство и не отмыть его уже ничем. И если на родину предков Филиппон отправился с твердым намереньем откосить от армии, то под откос вместо этого полетит вся его прежняя – нелепая и никчемная жизнь.

