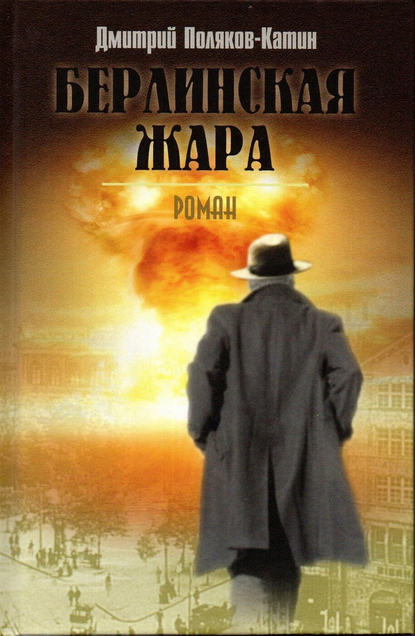По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Берлинская жара
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не верится, – вздохнула она.
– Как же получилось, Дори, что, живя в Берлине, вы ни разу не были на Ванзее? – сменил тему Хартман.
– Не приходило в голову приехать сюда. У нас в Кройцберге, знаете, свои курорты.
Девушка села на стульчик, кутаясь в тот же шерстяной жакет, который был на ней во время их первой встречи. Хартман показал ей бумажный пакет, прихваченный им из машины.
– Я взял вино, – сказал он. – Но забыл бокалы.
Дори улыбнулась:
– Что ж, будем пить из горлышка.
Он сел рядом на доски, привалившись спиной к перилам, извлек из пиджака штопор, ловко вынул пробку и протянул ей бутылку.
– Это правда, что где-то здесь живет Геринг? – спросила Дори, отпив вина.
– Правда. Вон там, на острове.
– Должно быть, это государственная тайна?
– Конечно. Если бы он так часто не хвастался своим особняком.
Она вернула ему бутылку:
– Чудесное вино.
– Мозельское. Из старых запасов.
– Я уже забыла его вкус.
– В немецком много сахара и мало солнца. Я угощу вас испанским, из Каталонии.
– А мы до войны любили французское. Его разбавляют водой.
– О, не обязательно.
– Отдавайте бутылку, – засмеялась Дори. – А то мне не останется.
Она поднесла горлышко к губам, и сквозь зеленое стекло ударило солнце. Хартман зажмурился, но не смог отнять глаз от светящейся головки девушки.
– По-моему, это лучшее из того, что может предложить алкоголь, – воскликнула Дори.
– Не забывайте, – самодовольно усмехнулся Хартман, – я ведь наполовину испанец и разбираюсь в вине не понаслышке.
По старой тропе, вздыбленной разросшимися корнями могучих дубов, они вышли к небольшой танцплощадке на опушке парка, где трое дряхлых инвалидов, вооруженных аккордеоном, трубой-пикколо и парой эстрадных барабанов, пытались сладить нехитрую мелодию. Труба заметно фальшивила, барабан сбивался с ритма, но в целом звучание получалось сносным.
– Эта паршивая пикколо никуда не годится, – возмутился худой трубач с искривленными, артритными пальцами, обращаясь почему-то к Хартману, которого видел впервые. – Звук высокий – ей только с концертиной дудеть. Вот была у меня труба, лучше не бывает – так жена продала, зараза. Проели. А эту и не купит никто. Насмешка на инструмент, и только. А труба была чистая, тысяча девятисотого года, мой господин. Я ею на танцах играл.
– А что, старики, «Голубой вальс» можете? – спросил Хартман.
– Это который Штрауса? – уточнил полный аккордеонист в берете, придавленный собственным инструментом.
– Нет, это другой. – Хартман тихонько напел мелодию.
– А-а, это? Знаю, – кивнул трубач. – Это мы играли. Ну, помните?
И немного посовещавшись, пожилые музыканты нестройно, но энергично затянули старый медленный вальс, под который когда-то танцевали их дети, что послужило Хартману основанием пригласить Дори на танец.
От нее пахло дешевой галантереей и чистыми волосами. Худенькие руки невесомо легли ему на плечи, на лице появилось сосредоточенное выражение. И хотя в рисунке тела, в манерах девушки проступала некоторая угловатость, движения ее были исполнены природного изящества и естества.
– Я вам очень благодарна за брата, – тихо сказала Дори, глядя ему в грудь.
– Пустяки. Тем более он и правда угодил под горячую руку.
– Отто хочет поблагодарить вас лично.
– В этом нет необходимости… Впрочем, если этого хотите вы, то можете заглянуть вместе с ним как-нибудь утром в отель. За завтраком я почти всегда свободен.
Она подняла на него свои прозрачные, как небо, глаза и улыбнулась:
– Какой прекрасный сегодня день.
– Идемте, Дори, я вас познакомлю со старым другом. – Хартман положил на барабан купюру в пять рейхсмарок и повел ее назад к озеру.
– Ого! – преодолевая одышку, обрадовался толстяк-аккордеонист. – А ведь мы сегодня неплохо заработали, мальчики!
Во дворе маленького, пряничного домика на краю поселка копошился сгорбленный хозяин с сугробом седых волос на голове. Хартман по-хулигански свистнул ему издалека.
– Это мой старый друг Артур. Он рыбак. И рыбачит здесь с самого детства. Я все правильно говорю, Артур? – Хартман обнял старика, который просиял так, словно увидел родного сына. – Ему тесно возле этой лужи. Артуру подавай океан. Вот там бы он развернулся в полную силу.
Из нескольких ничего не значащих для постороннего уха фраз можно было понять, что немало времени они провели, сидя с удочками в лодке посреди водной глади.
– Вот я и говорю, Франс, переезжай ко мне, пока тебя не заграбастали в солдаты. – Артур подслеповато уставился на Дори: – А это что за небесное создание с тобой?
– Это Дори, – сказал Хартман. – И она прекрасна.
– Я вижу, что она прекрасна. Немецким девушкам красоты не занимать. Им нужно с утра до вечера плясать и целоваться с парнями, а не служить этому Гитлеру под бомбами в грязных окопах, чтоб ему пусто было.
– Господи, что ты несешь, Артур? – покачал головой Хартман.
– А что? Чего мне бояться? Он же не Бог. Я тоже слышу эти бомбежки. И они всё ближе. А ему хорошо бы подумать, что он натворил.
– Послушай, так ты по-прежнему ходишь на лодке? – сменил тему Хартман. – Где она?
– Да всё там же. Хочешь покатать девушку?
– Боюсь, уже поздно.