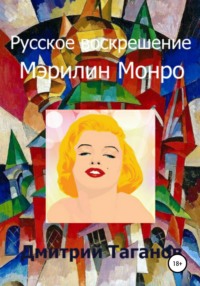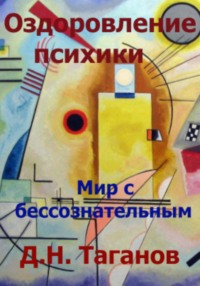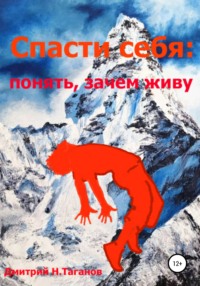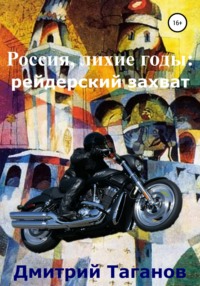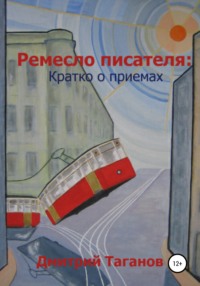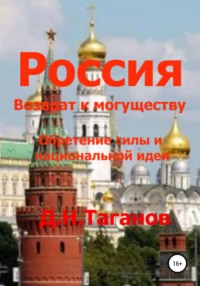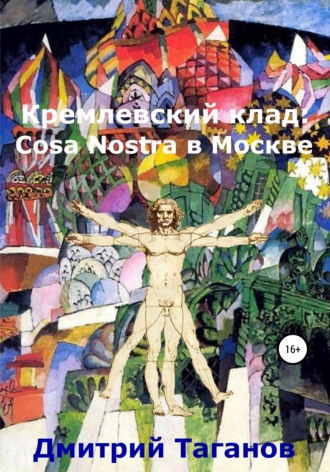
Кремлевский клад: Cosa Nostra в Москве
Черкизов ничего не ел с самой Москвы и самолета, поэтому с удовольствием навернул: всяких сыров и холодного мяса тут был полный стол, одних сортов маринованных маслин – пять видов. Несмотря на ранний час, он не удержался и запивал эту роскошную итальянскую снедь любимым с давних пор кьянти. Ощутив в животе и голове приятную негу, он откинулся на спинку стула и без паузы перешел к своему делу.
– Дорогой, надо бы нам с тобой найти в Кремле те две иконы. Как ты думаешь?
– Отчего нет! – их разговор шел на английском.
– Мой человек, профессор истории, скоро сюда прилетит поработать в ваших архивах. И ты знаешь в чьих? Семьи архитектора Фьораванти, – и Черкизов остро, но с улыбкой, в упор посмотрел на друга.
Паркетчик, встретив этот взгляд, дрогнул губами, отвел глаза, но потом весело рассмеялся.
– Зачем тогда я тебе нужен?
– Как зачем! Ты мой старый друг. Разве нет? Как же я без тебя!
– Расскажи, расскажи.
– Пока рассказывать нечего. Вот если бы ты нам все свое рассказал! Что же моему профессору перелопачивать все архивы, раз ты знаешь, что у вас, да где! Объединим наши знания. Чтобы не стучать больше по стенам напрасно. Ну, как идея?
– Можно. Что ж… – но ожидаемого энтузиазма в своем друге Черкизов не заметил. Какой-то вялый стал его друг.
– Так покажешь моему профессору, где искать? А он еще что-нибудь нам накопает. Тогда одна икона – твоя, когда вынем, а другая – моя.
– Сможешь вынуть?
– Теперь смогу. Раньше нет
– Большим начальником стал?
– Так, кое-каким. Да вот деньги у меня кончились.
– Это бывает. Давай, давай, – опять по-русски закончил итальянец.
Осматривать достопримечательности города Черкизов поехал без друга, но с нанятым им русскоязычным гидом, и на другой его машине, в открытом кабриолете "Ланча" с шофером.
После сытного завтрака с бутылкой выпитого кьянти этот город показался Черкизову совсем фантастическим.
Ужин у друга был не менее обильным, но кратким: в шесть утра нужно было выезжать Черкизову в Рим, к самолету. Обычно не пившей теперь много Черкизов, в этот вечер себя не сдерживал. Кьянти он перемежал с коньяками, закусывая их, просто бросая в рот маслину. Почти все было сказано между ними утром, оставалось только договориться о прилете профессора с дочерью, о размещении их в отеле: сам Черкизов прилететь вместе с ними не планировал.
К девяти часам Черкизов с трудом уже ворочал языком на своем тяжелом английским, и ноги у него подкашивались. Года сказывались и на нем: раньше он мог принять на грудь куда больше…
Самое важное итальянец сказал Черкизову в конце ужина, когда тот не смог воспринять это, как следовало. Это и стало причиной всей трагедии.
– Передай своему профессору, – медленно и отчетливо сказал итальянец, – и сам имей это в виду, местоположение тайника в архивах, возможно, зашифровано. Не знаю кем. И многие страницы архива утеряны. Только поэтому нам не удалось узнать все до конца.
– Шифр? Ребус? Это ничего, мы это любим. Ты еще нас, русских, не знаешь!
– И еще одно. Очень важное. Может, ты передумаешь, пока не поздно. Я уже не свободен, как раньше. Мою фирму контролируют. Я больше не хозяин.
– Вот это плохо. Надо все и всегда контролировать. Но ничего, они нам и не нужны – твои новые хозяева. Кто они?
– Мафия.
Рано утром на рассвете Черкизова разбудил слуга и проводил его в душ. Выпив лишь стакан грейпфрутового сока, Черкизов медленно оделся. У подъезда его ждал знакомый ему кабриолет «Ланча», но верх у него теперь был поднят. Друг вышел в сад его проводить, и на прощание они без слов обнялись. Как только машина тронулась, Черкизов опять провалился в тяжелый похмельный сон.
11. Миланская «семья»
На том же левом берегу реки Арно, но только дальше от города и вглубь холмов Тосканы, стояла другая вилла. Она была еще просторнее, сады вокруг нее шире, и она была еще более старинная. Когда-то она принадлежала потомкам самого знатного рода Флоренции: Медичи. Несколько лет назад эта вилла была куплена у потомков Медичи потомком рода не столь знаменитого, но тоже известного в Италии, и носившего титул «герцога миланского». Италия – не Англия, но титулы и аристократические фамилии здесь тоже любят и ценят.
Куплена вилла современным «герцогом миланским» была, как загородная дача, особенно приятная своими тенистыми садами и виноградниками во второй половине лета, когда оставаться в Милане становилось просто невозможно. Выбор пал на эту виллу еще и потому, что восемнадцатилетняя дочь «герцога» Франческа поступила учиться в знаменитый колледж дизайна во Флоренции. Позволить же ей жить, как всем, в общежитии, или что-то снимать, было бы этим богатым и влиятельным людям очень беспокойно, и даже неприлично. Наконец, еще одной причиной выбора этого места стала известная тяга «герцога» к историческим местам, связанным с его славной фамилией. Флоренция, – жемчужина Ренессанса, – веками была местом драматичных событий, как в политике, так и в искусстве. В ее архивах, – до того, как наводнение 1966 года не уничтожила, и не разбросало значительную их часть по всему городу, – хранились бесценные документы из рода «герцога миланского». Поэтому «герцог» лично время от времени заглядывал в эти полутемные помещения, чтобы полистать оставшиеся старые бумаги, упоминавшие его знатных предков.
И то, что современный «герцог миланский» происходил не из самой почетной ветви этого знатного рода, а скорее из самой его «захудалой», и даже его фамилия была иной, большого значения это для него не имело. Все прочие многочисленные потомки герцога миланского никогда не решились бы оспаривать его, так сказать, «первородство». И по одной простой причине. Современный «герцог миланский» был еще и главой миланской мафии, преступной родовой организации, – или, как это называется на Сицилии или в Нью-Йорке, – он был миланским «доном».
Приобретя во Флоренции недвижимость, миланский «дон» не смог однако широко развернуться на дружественной, но все-таки чужой территории. Он сумел взять под свой контроль лишь одно крупное предприятие: паркетную фирму с мировой, правда, известностью. Он убедил местного мафиозного босса, что эта фирма имеет к нему прямое «родовое» отношение. Он и себя убедил в этом, узнав от лебезящего перед ним местного архивариуса о давнем интересе бывшего владельца паркетной фирмы к архиву одного из знаменитых друзей славного герцога миланского образца пятнадцатого века – Аристотеля Фьораванти. Поэтому «дон» вскоре поставил эту фирму под полный свой контроль – со всем ее паркетом и с архивным интересом к далекому предку и другу его Фьораванти. В обмен на эту добрую волю «дон» выдал боссу местной мафии не меньшую привилегию в своих районах родного Милана: расширить сеть наркодилеров. Сам «дон» этим никогда не занимался, – только разнообразным строительством, нелегальным ростовщичеством, а в последнее время, еще игорным бизнесом.
Получив финансовый контроль над паркетной фирмой, «дон», как полагается, сначала припугнул бывшего хозяина фабрики. И только после этого начал лично расспрашивать его об их недавнем интересе к его далекому предку и его другу Фьораванти. Бывший хозяин оказался слаб и здоровьем и волей, он выложил «дону» сразу все, что они накопали двадцать лет назад в местном архиве, и даже рассказал, как они пробовали найти клад в далеком московском Кремле.
Но «дон» только позабавился наивностью бывших хозяев фабрики, убедившись еще раз, что им не стоило существовать без его контроля. Он даже рассмеялся, и ему сразу пришлось принять после этого лекарство: «дон» уже несколько лет боролся с сердечной аритмией. Он принял лекарство и забыл обо всем этом. Вспомнил он, или, вернее, ему напомнили это, через несколько лет, когда управляющий фирмы, бывший ее хозяин, доложил ему о скором приезде во Флоренцию профессора из Москвы с дочерью, чтобы опять рыться в «его» архивах, чтобы найти в них разгадку к «его» тайнику в московском соборе. За годы отдыха на вилле во Флоренции, после частых и долгих бесед с местным архивариусом об истории своего славного благородного рода, «дон» и одновременно «герцог миланский» теперь был полностью убежден, что все, связанное, с древними миланскими герцогами или их друзьями, касалось только лично его, и никого другого. Тайник в Кремле, разумеется, тоже был только его.
Когда же профессор из Москвы действительно приехал во Флоренцию, «дон» очень радушно принял его с дочерью в офисе паркетной фирмы, как истинный ее хозяин. Дон Спинноти был обаятелен и вежлив с московским историком, как может быть вежлив только умный хищник со своей жертвой. Прием московских гостей был теплым, но кратким: «дон» чувствовал себя все хуже, сердце стучало все беспорядочней, ни лекарства, ни врачи не помогали. На прощание он пожелал русским успеха, посетовав, что не сможет заниматься их поисками лично, и предоставит заботу о них своему сыну, правой его руке во всех теперь делах.
Сын «дона» Марио выехал из Милана во Флоренцию только через несколько дней, специально взглянуть на кладоискателей из Москвы. Это был крутой мафиози нового склада, жестокий и холодный. Его интересовали только деньги, но, правда, и все остальное, что можно на них купить, включая власть. Новость об «их» семейном кладе в московском Кремле чрезвычайно заинтересовала его. Строительный бизнес в Италии во время кризиса, да и после него, буквально загибался. Миланцам было и не до азартных игр с его жуликоватыми автоматами – однорукими бандитами. Конечно, деньги в займы у мафиозных акул-ростовщиков миланцы брали, и даже больше, чем раньше. Но отдавать в срок могли немногие, некоторые вообще не в состоянии были это сделать, а ломать им всем за это руки или ноги, – как это положено, – становилось слишком хлопотно. Все же прочие криминальные сферы и районы города были давно поделены между несколькими «семьями», но начинать войну за их передел тоже пока не было ни сил, ни денег. Заполучить же половину кремлевского клада, – а может быть, и весь, – по предварительным оценкам стоящего под сотню миллионов долларов, было бы чрезвычайно кстати.
Ехал сын «дона» из Милана во Флоренцию не один, а со своей старшей сестрой. Та была в процессе развода со своим очередным мужем. Две ее девочки учились в Англии, и сама она тоже только что вернулась оттуда. В Милане ей было летом до смерти скучно и тоже захотелось на дачу во Флоренцию, а заодно и поглядеть на этих полоумных русских. Это была роскошная итальянская женщина, сладкая, как груша, но слегка уже перезревшая. Звали красавицу Анжела.
Третьим в их несущейся по холмам и горам на юг от Милана машине был иностранец. Это был паренек двадцати трех лет с русой копной волос, слегка курносый, внешне спокойный. Его постоянное напряжение выдавали только голубые глаза – они то «бегали», перескакивая с одного на другое, то останавливались, как будто мертвые. В мафиозной семье паренек был на подхвате, выполняя все, что ему скажут. Итальянский язык он только учил, но уже мог кое-как изъясняться. У себя на родине он убил год назад очень крупного «авторитета» и «вора в законе», поэтому вынужден был сразу уехать. В Италии его приютила в порядке «интернациональных связей» эта миланская «семья» и дала ему кое-какую работу. Но Марио, сын «дона», взял его с собой во Флоренцию только по одной простой причине: тот знал русский язык. Звали молодого киллера Петькой Ребровым, но он был известен у себя на родине и под кличкой Терминатор, или попросту Теря.
Четвертым в машине сидел за рулем телохранитель, шофер и личный друг «сына» – крепкий, смешливый Карло. Отличался он от других членов «семьи» тем, что никогда не носил при себе огнестрельное оружие, – что было безопаснее в случае обыска. На нем всегда были только разнообразные ножи, – он был виртуоз в обращении с холодным оружием. В зависимости от опасной ситуации, в руках Карло мог появиться один или другой нож, который в следующее мгновение либо летел, вращаясь, во врага, либо со щелчком открывался автоматически и в обратном хвате снизу вверх, вспарывал тому живот, или же, как молния, взлетал к горлу и перерезал сонную артерию. Как хороший итальянец учится играть на мандолине, практикуясь на ней часами, так и виртуоз Карло мог оттачивать свою ножевую технику, не замечая ни времени, ни чужих глаз вокруг.
12. Архивы
Историк профессор Сизов жил и работал с дочерью во Флоренции уже полторы недели. Остановились они в скромном «Феруччи-отеле» на набережной реки Арно, напротив собора Кроче. Этому отелю, как и всем зданиям в центре Флоренции, было, по крайней мере, лет триста: с высокими потолками, с дубовой резной мебелью и картинами, а в комнате Сизова, – даже с расписанным в стиле Ренессанса потолком.
С первого же дня историк засел в архивах, и узнавал о красотах этого города только вечерами от своей дочери. Та успела уже обежать множество мест и была в восторге от увиденного. Историк же пока откладывал свой выходной день, полагая, что еще не заслужил его. Работа продвигалась медленно. И это не смотря на то, что многое было сделано до их прилета: принимающей стороной были получены важные разрешения и допуски в архивы, скопированы перечни и классификаторы. Наконец, профессор был сразу приведен сотрудником паркетной фирмы в самый многообещающий архив, где те сами двадцать лет тому назад нашли ссылку на кремлевский тайник. Работа осложнялась тем, что после катастрофического наводнения во Флоренции в 1966 году, когда горные потоки выплеснулись из русла Арно и поднялись на три метра выше ординара, все архивы, и прочие ценности, хранившиеся ниже этого уровня, либо были унесены рекой в море, либо перемешаны до степени хаоса. После просушки многое было также утеряно для историков, попав в «чужие» папки и «дела». Официально считалось, что погибли или были повреждены более 3 миллионов книг и рукописей, а также 14 тысяч иных бесценных произведений искусства.
Предыдущим вечером, когда Сизов с дочерью пили чай, вскипяченный в стеклянной банке электро-спиралькой, и поглядывали на экран телевизора, мелькающий итальянским весельем, к ним в номер явился сын того сеньора, кто их принял в день приезда, сын хозяина паркетной фирмы. Явился он не один, а с блондинистым парнем, который, правда, даже не открыл ни разу рот.
Сначала, конечно, раздался телефонный звонок. Сизов не сразу решился поднять трубку: ничьих звонков сюда, в номер отеля, он не ждал. Но телефон продолжал трезвонить, и он взял трубку. По-итальянски, вежливо и кратко мужской голос попросил разрешения нанести визит. Сообразив, кто это, Сизов радушно пригласил его подняться к ним в номер.
Это был Марио Спинноти, сын хозяина фабрики и «спонсор» исторических изысканий. Его интересовал «достигнутый прогресс» в архивной работе, и когда можно ожидать результатов. Он заметил, – несколько, правда, резковато, – что времени прошло много, почти полторы недели, и пора бы гостю им что-нибудь предъявить. Сизов порадовать того ничем не смог. В довольно откровенной форме он высказал свои сомнения, что успеет за две недели найти что-нибудь для них интересное, тем более, что скоро они с дочерью собирались уже улетать в Москву.
– К сожалению, э… кроме исторических фактов, ничего другого найти не получается…
Но Марио как будто пропустил его сомнения мимо ушей, но это было вовсе не так.
– Ничего, профессорэ, у вас все получится. Должно получиться. Другого выхода у вас нет.
– Что вы имеете в виду?
– Только то, что я сказал.
Когда эти двое ушли, у Сизова остался неприятный осадок. Он явственно почувствовал угрозу. Никогда раньше так ему не угрожали, уж тем более, на научном поприще. Ему даже стало досадно, что при этом присутствовала его дочь. Хотя, наверняка, она ничего не поняла по-итальянски, но смысл фраз, произнесенных без намека на вежливые улыбки, та почувствовала сразу.
Почувствовала она и другое. Как этот блондинистый парень смотрел на нее все это время. Тане было восемнадцать, но в сердечных делах она разбиралась безошибочно и хорошо умела осаживать увивающихся вокруг нее ухажеров.
К этому блондину она сразу почувствовала какое-то омерзение. Это было первое и безошибочное чувство любой молодой женщины, встретившей на своем пути совершенно неподходящего на роль отца ее детей человека, и в первую очередь, – биологически. Можно бы сказать обратное про «любовь с первого взгляда», но об этом позже.
Уже через день после этого, в конце второй недели пребывания во Флоренции, Сизов позвонил в офис паркетной фирмы и попросил назначить ему встречу с «хозяином» фабрики, которого он видел всего раз по приезде. Сизова попросили подождать минуту, но затем объяснили, что его может принять только сын хозяина, Марио, которому переданы отцом все полномочия по этой работе. Встреча была назначена на следующий день.
Весь этот вечер и полночи Сизов готовился к встрече. С научной точки зрения работа Сизова во Флоренции завершалась блестяще. Для этого ему пришлось буквально бегать по всем архивам Флоренции, по которым после наводнения 1966 года был рассеяны нужные исторические материалы.
Самыми потрясающими были найденные им дневники, или, вернее, обрывки дневников Аристотеля Фьораванти о его походе с царем Иваном III на Новгород. Фьораванти был при русском царе, прежде всего, инженером, фортификатором, – но когда Сизов читал его подробные описания казней покоренных новгородцев, у него мурашки бежали по спине.
Еще Сизов нашел дневниковые записи Фьораванти о походе царя на Тверь. Прояснялась туманная до сих пор подоплека этого события: интриги и соперничество бояр. Фьораванти в этом походе заведовал артиллерией. И вероятнее всего, в Москву он из этого похода не вернулся именно поэтому. Сохранились описания страшных разрывов орудий местного производства и гибели многих пушкарей.
Это были важные исторические находки, и Сизов мог бы гордиться ими. Он и гордился, и начал уже обдумывать первую статью в исторический журнал. Но его тревожило другое: ничего существенно нового про тайники в Кремле он так и не нашел. Ему нечего было предъявить ни Черкизову, ни итальянскому «спонсору», организовавшим и оплатившим столь удачную его командировку.
Если папки с архивами самого Аристотеля Фьораванти были более-менее целыми после наводнения 1966 года, то поздние бумаги, собранные, как стало ясно, его сыном Андреа, находились в ужасающем состоянии. По-видимому, они все промокли во время наводнения, затем их сушили, в спешке собрали как попало в стопки и перевязали эти стопы бечевкой. Можно было еще считать удачей, что многое, относящееся к фамилии Фьораванти, удалось разыскать. К сожалению, далеко не все: об этом красноречиво свидетельствовали различия в описях, сделанных для каждой подборки бумаг до наводнения, и тем, что находилось в этих стопах теперь. Где были пропавшие документы? Давно уплыли в сторону моря? Или покоились среди тысяч «чужих» папок и стоп, уложенные туда в спешке самоотверженными спасателями, но утерянные таким образом для историков, как если бы они тоже уплыли в море.
Более поздние рукописи, собранные сыном архитектора Андреа, имели много утрат, – страниц со смытыми водой чернилами, с вырванными клоками размокшей бумаги и тому подобным. Для Сизова было совершенно неожиданным, что почти все собранное и написанное сыном Андреа было тоже на латыни. Видимо, поэтому читавший эти бумаги почти двадцать лет назад паркетчик-флорентинец, забывший язык своих предков, принял эти тексты за шифровку. Большую часть архивов Андреа составляли чертежи прекрасных соборов и палаццо. Несомненно, Андреа продолжил семейную традицию и стал замечательным архитектором. Тут были и записи, относящиеся к его личной жизни, и тоже на латыни. Особенно выделялись листы с нечто средним между дневниковыми записями и завещанием. Их-то и читали двадцать лет назад первые кладоискатели. Здесь было прямо сказано о тайниках, устроенных отцом и сыном Фьораванти в московском Кремле. Новое же, что нашел Сизов, или вернее, на что он обратил свое внимание, – было только упоминание о «скрытом книгохранилище».
В завещании ясно и недвусмысленно сообщалось, что им, Андреа, вместе с его pater Аристотелем Фьораванти оставлены в московском кремле ditum и obscure bibliotheca, то есть скрытое и упрятанное книгохранилище. Несомненно, речь шла о подземной «библиотеке Ивана Грозного». Более подробно Андреа упоминал о другом тайнике, – в стене Успенского собора. В переводе с латыни этот текст звучал примерно так: «Нами устроена ниша в алтаре собора, построенного моим pater, и в нее уложены иконы русского мастера Андрея Рублева. Обе иконы привезены pater из военного похода, и были спасены им от уничтожения в belluм (то есть в войне)».
Но никакого рисунка или плана, даже смутно напоминающего московский Кремль или его соборы, в этой стопе бумаг не нашлось. Зато в описи бумаг из той же стопы, сделанной спустя столетия, но еще до наводнения, точно так и значилось: pingo consilium. Это была ссылка на некий рисунок или план. За этими двумя словами была еще приписка, наверное, более поздняя, судя по почерку и чернилам: conjungo mortuus viltus. Приблизительный перевод: связано с мертвым лицом или головой. Вторая приписка была понятнее: Fumus… – это можно было понять, как испорченная дымом, закопченная. Но где это? Перечислены были и другие отсутствующие в этой папке и, вероятно, навсегда утерянные документы.
Для Сизова все это показалось лучом божественного света, достигшего его через пол тысячелетия. Все это, вместе с поздними приписками, означало, что ключ к кремлевским тайникам когда-то существовал, но только утерян. Последнее нисколько не омрачило эйфории, которую он тогда ощутил. Самым важным было то, что кремлевские тайники – не фантомы, они есть, существуют, и ждут, чтобы кто-нибудь их отыскал.
Но это же было для Сизова одновременно и тупиком. Разыскать pingo consilium, «рисованный план», в десятках тысяч стоп, среди сотен тысяч или миллионов документов, куда могли засунуть этот лист спасатели, даже если он не уплыл сразу в море, ни ему одному за неделю, ни бригаде историков даже за год, – не удалось бы.
Теперь же, готовясь к завтрашней встрече с Марио, Сизов с тяжестью в сердце осознавал, что этот единственный новый результат – о подземной библиотеке, – который мог быть интересен «спонсорам», вызывавшим у него теперь сильную неприязнь, ему придется им все-таки сообщить.
13. Джулиано
Сизов не решил еще, стоит ли рассказывать сыну «спонсора» Марио о его необыкновенной встрече в архиве со странным человеком. За день до этого Сизов как обычно работал в одном из многочисленных флорентийских архивов. Тут было тихо и, как всегда, пусто, – Сизов очень любил потемки и тишь старых архивов. Вдруг перед его столом, за лампой с зеленым абажуром, выросла высокая фигура крупного молодого мужчины. Сизов поднял вверх глаза и услыхал грозное:
– What’s the hell are you doing here! – в переводе с английского это было примерно: – Какого черта вы тут делаете!
С заминкой переходя с латыни на английский, Сизов робко ответил:
– E-e… just reading, – Э-э… просто читаю.
– Моя фамилия Фьораванти. Вам это что-нибудь говорит?
– Говорит, конечно, господин э-э…
– Джулиано. Это мое имя. Хотите говорить по-итальянски?
– Мне все равно.
– Окей, тогда по-английски. Что вы тут вынюхиваете? Это мои документы. Все мои. Неважно, что они лежат в городском архиве!
– Если бы я знал, я мог бы спросить разрешение…
– Вот это другое дело. Можете спросить его прямо сейчас. – Джулиано вывернул стоящий рядом стул и сел на него верхом напротив Сизова, через стол с зеленой лампой. – Вы копаетесь в наших семейных архивах, и даже не спросили нас. Что за манеры! Вы все такие в России?
– Прошу прощения, – промямлил Сизов, – я не предполагал, что кто-нибудь из Фьораванти еще жив.
– Куда же мы могли подеваться! У нас не было вашего ГУЛАГа. В Италии полно разных Фьораванти, я один из них. Вы уже накопали, что хотели?
– Немного. Вам показать?
– Не надо. Мне это не интересно. Окей, читайте дальше, я вам разрешаю. Но полагается, спрашивать!
С этими словами потомок Фьораванти резко встал со стула и, не попрощавшись, направился к выходу. Сизов, не прикрыв рта, проследил за ним до дверей. Но на следующий день после этого Сизов снова увидал Джулиано Фьораванти.
Около восьми вечера Сизов с дочерью, как всегда, готовились к ужину. Оживленно обменивались дневными впечатлениями, они кипятили в стеклянной банке чай, раскладывали на столе маслины, сыры, резали вкуснейший, с толстенной коркой итальянский хлеб. На столе стояла уже початая бутылка недорогого, но замечательного тосканского белого вина. В этот момент раздался звонок телефона на тумбочке возле кровати.
Сизов с дочерью осеклись на полуслове, оба с ужасом глядя на трезвонящий аппарат: несколько дней назад такой же звонок предшествовал отвратительной встрече с Марио. Но прятаться в номере от этих настойчивых звонков было глупо. Сизов осторожно, как нечто взрывчатое, поднял трубку к уху.