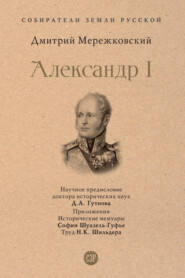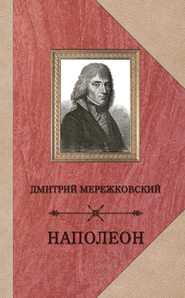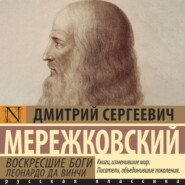По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
Серия
Год написания книги
1901
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И ему казалось порой, что он казнит ее страшною, медленною казнью. И он ужасался ее покорности, которой так же не было предела, как его нежному и беспощадному любопытству.
Только в последнее время ощутил он в себе самом этот предел, понял, что, рано или поздно, должен будет решить, кто она для него – живой человек или только призрак – отражение собственной души в зеркале женственной прелести. У него была еще надежда, что разлука отдалит на время неизбежность решения, и он почти радовался, что покинет Флоренцию. Но теперь, когда разлука наступала, он понял, что ошибся, что она не только не отсрочит, но приблизит решение.
Погруженный в эти мысли, не заметил он, как вошел в глухой переулок и, когда оглянулся, не сразу узнал, где он. Судя по видневшейся над крышами домов мраморной колокольне Джотто, он был недалеко от собора.
Одна сторона узкой, длинной улицы вся была в непроницаемо черной тени, другая – в ярком, почти белом лунном свете. Вдали краснел огонек. Там, пред угловым балконом, с пологим черепичным навесом, с полукруглыми лунами на стройных столбах, – флорентийской лоджией, – юноши в черных масках и плащах под звуки лютни пели серенаду. Он прислушался.
Это была старая песня любви, сложенная Лоренцо Медичи Великолепным, сопровождавшая некогда карнавальное шествие бога Вакха и Ариадны, – бесконечно радостная и унылая песня любви, которую Леонардо любил, потому что часто слышал ее в юности:
Quant'e bella giovinezza,
Che ai fugge tuttavia.
Chi vuol'esser lieto, sia
Di doman'non c'e certezza.[73 - О, как молодость прекрасна,Но мгновенна!Пой же, смейся,Счастлив будь, кто счастья хочет —И на завтра не надейся.]
Последний стих отозвался в сердце его темным предчувствием.
Не посылала ли ему судьба теперь, на пороге старости, в его подземный мрак и одиночество родную, живую душу? Оттолкнет ли он ее, отречется лм, как уже столько раз отрекался, от жизни для созерцания, пожертвует ли снова ближним дальнему, действительным несуществующему и единственно прекрасному? Кого выберет – живую или бессмертную Джоконду? Он знал, что, выбрав одну, потеряет другую, и обе были ему одинаково дороги; также знал, что надо выбрать, что нельзя больше медлить и длить эту казнь. Но воля его была бессильна. И не хотел, и не мог он решить, что лучше: умертвить живую для бессмертной или бессмертную для живой – ту, которая есть, или ту, которая будет всегда на полотне картины?
Пройдя еще две улицы, он подошел к дому своего хозяина, Мартелли. Двери были заперты, огни потушены. Он поднял молоток, висевший на цепи, и ударил в чугунную скобу. Привратник не ответил – должно быть, спал или ушел. Удары, повторенные гулкими сводами каменной лестницы, замерли; наступила тишина; казалось, лунный свет углублял ее.
Вдруг раздались тяжкие, медленно-мерные медные звуки – бой часов на соседней башне. Их голос говорил о безмолвном и грозном полете времени, о темной одинокой старости, о невозвратимости прошлого.
И долго еще последний звук, то слабея, то усиливаясь, дрожал и колебался в лунной тишине расходящимися звучными волнами, как будто повторяя:
Di domanion c'e certezza.[74 - И на завтра не надейся.]
На следующий день мона Лиза пришла к нему в мастерскую в обычное время, в первый раз одна, без всегдашней спутницы своей, сестры Камиллы. Джоконда знала, что это – их последнее свидание.
День был солнечный, ослепительно-яркий. Леонардо задернул полотняный полог – и во дворе с черными стенами воцарился тот нежный, сумеречный свет – прозрачная, как будто подводная, тень, которая лицу ее давала наибольшую прелесть. Они были одни.
Он работал молча, сосредоточенно, в совершенном спокойствии, забыв вчерашние мысли о предстоящей разлуке, о неизбежном выборе, как будто не было для него ни прошлого, ни будущего, и время остановилось, – как будто всегда она сидела так и будет сидеть перед ним, со своею тихою, странною улыбкою. И то, чего не мог сделать в жизни, он делал в созерцании: сливал два образа в один, соединял действительность и отражение – живую и бессмертную. И это давало ему радость великого освобождения. Он теперь не жалел ее и не боялся. Знал, что она ему будет покорна до конца – все примет, все вытерпит, умрет и не возмутится. И порой он смотрел на нее с таким же любопытством, как на тех осужденных, которых провожал на казнь, чтобы следить за последними содроганиями боли в их лицах.
Вдруг почудилось ему, что чуждая тень живой, не им внушенной, ему не нужной, мысли мелькнула в лице ее, как туманный след живого дыхания на поверхности зеркала. Чтобы оградить ее – снова вовлечь в свой призрачный круг, прогнать эту живую тень, он стал ей рассказывать певучим и повелительным голосом, каким волшебник творит заклинания, одну из тех таинственных сказок, подобных загадкам, которые иногда записывал в дневниках своих.
– «Не в силах будучи противостоять моему желанию увидеть новые, неведомые людям, образы, созидаемые искусством природы, и, в течение долгого времени, совершая путь среди голых, мрачных скал, достиг я наконец Пещеры и остановился у входа в недоумении. Но, решившись и наклонив голову, согнув спину, положив ладонь левой руки на колено правой ноги и правой рукой заслоняя глаза, чтобы привыкнуть к темноте, я вошел и сделал несколько шагов. Насупив брови и зажмурив глаза, напрягая зрение, часто изменял я мой путь и блуждал во мраке, ощупью, то туда, то сюда, стараясь что-нибудь увидеть. Но мрак был слишком глубок. И когда я некоторое время пробыл в нем, то во тьме пробудились и стали бороться два чувства – страх и любопытство, – страх перед исследованием темной Пещеры, и любопытство – нет ли в ней какой-либо чудесной тайны?»
Он умолк. С лица ее чуждая тень все еще не исчезала. – Какое же из двух чувств победило? – Любопытство. – И вы узнали тайну Пещеры? – Узнал то, что можно знать. – И скажете людям? – Всего нельзя, и я не сумею. Но я хотел бы внушить им такую силу любопытства, чтобы всегда оно побеждало в них страх. – А что, если мало одного любопытства, мессер Леонардо? – проговорила она с неожиданно блеснувшим взором. – Что, если нужно другое, большее, чтобы проникнуть в последние, и может быть, самые чудесные тайны пещеры?
И она посмотрела ему в глаза с такою усмешкою, какой он никогда не видал у нее. – Что же нужно еще? – спросил он. Она молчала.
В это время тонкий и острый, ослепляющий луч солнца проник сквозь щель между двумя полотнищами полотна; Подводный сумрак озарился. И на лице ее очарование нежных, подобных дальней музыке, светлых теней и «темного света» было нарушено. – Вы уезжаете завтра? – проговорила Джоконда. – Нет, сегодня вечером. – Я тоже скоро уеду, – сказала она. Он взглянул на нее пристально, хотел что-то прибавить, но промолчал: догадался, что она уезжает. Чтобы не оставаться без него во Флоренции.
– Мессер Франческо, – продолжала мона Лиза, – едет по делам в Калабрию, месяца на три, до осени; я упросила его взять меня с собою.
Он обернулся и с досадою, нахмурившись, взглянул на острый, злой и правдивый луч солнца. Дотоле одноцветные, безжизненно и призрачно-белые брызги фонтана, теперь, в этом преломляющем, живом луче, вспыхнули противоположными и разнообразными цветами радуги – цветами жизни.
И вдруг он почувствовал, что возвращается в жизнь – робкий, слабый, жалкий и жалеющий.
– Ничего, – проговорила мона Лиза, – задерните полог. Еще не поздно. Я не устала.
– Нет, все равно. Довольно, – сказал он и бросил кисть. – Вы никогда не кончите портрета? – Отчего же? – возразил он поспешно, точно испугавшись. – Разве вы больше не придете ко мне, когда вернетесь?
– Приду. Но, может быть, через три месяца я буду уж совсем другая, и вы меня не узнаете. Вы же сами говорили, что лица людей, особенно женщин, быстро меняются…
– Я хотел бы кончить, – произнес он медленно, как будто про себя. – Но не знаю. Мне кажется иногда, что того, что я хочу, сделать нельзя…
– Нельзя? – удивилась она. – Я, впрочем, слышала, что вы никогда не кончаете, потому что стремитесь к невозможному…
В этих словах ее послышался ему, может быть, только почудился, бесконечно-кроткий, жалобный укор. «Вот оно», – подумал он, и ему сделалось страшно. Она встала и молвила просто, как всегда: – Ну, что же, пора. Прощайте, мессер Леонардо. – Счастливого пути.
Он поднял на нее глаза – и опять почудились ему в лице ее последний безнадежный упрек и мольба.
Он знал, что это мгновение для них обоих невозвратимо и вечно, как смерть. Знал, что нельзя молчать. Но чем больше напрягал волю, чтобы найти решение и слово, тем больше чувствовал свое бессилие и углублявшуюся между ними непереступную бездну. А мона Лиза улыбалась ему прежнею, тихою и ясною улыбкою. Но теперь ему казалось, что эта тишина и ясность подобны тем, какие бывают в улыбке мертвых.
Сердце его пронзила бесконечная, нестерпимая жалость и сделала его еще бессильнее.
Мона Лиза протянула руку, и он молча поцеловал эту руку, в первый раз с тех пор, как они друг друга знали, – и в то же мгновение почувствовал, как, быстро наклонившись, она коснулась губами волос его.
– Да сохранит вас Бог, – сказала она все так же просто.
Когда он пришел в себя, ее уже не было. Кругом была тишина мертвого летнего полдня, более грозная, чем тишина самой глухой, темной полночи.
И точно так же, как ночью, но еще грознее и торжественнее, послышались медленно мерные, медные звуки – бой часов на соседней башне. Они говорили о безмолвном и страшном полете времени, о темной, одинокой старости, о невозвратимости прошлого.
И долго еще дрожал, замирая, последний звук и, казалось, повторял:
Di domannon c'e certezza – И на завтра не надейся.
Соглашаясь принять участие в работах по отводу Арно от Пизы, Леонардо был почти уверен, что это военное предприятие повлечет за собою, рано или поздно, другое, более мирное и более важное.
Еще в молодости мечтал он о сооружении канала, который сделал бы Арно судоходным от Флоренции до Пизанского моря и, оросив поля сетью водяных питательных жил и увеличив плодородие земли, превратил бы Тоскану в один цветущий сад. «Прато, Пистойя, Пиза, Лукка, – писал он в своих заметках, – приняв участие в этом предприятии, возвысили бы свой ежегодный оборот на 200 000 дукатов. Кто сумеет управлять водами Арно в глубине и на поверхности, тот приобретет в каждой десятине земли сокровище». Леонардо казалось, что теперь, перед старостью, судьба дает ему, быть может, последний случай исполнить на службе народа то, что не удалось на службе государей, – показать людям власть науки над природою.
Когда Макиавелли признался ему, что обманул Содерини, скрыл действительные трудности замысла и уверил его, будто бы достаточно тридцати – сорока тысяч рабочих дней, Леонардо, не желая принимать на себя ответственности, решил объявить гонфалоньеру всю правду и представил расчет, в котором доказывал, что для сооружения двух отводных, до Ливорнского болота, каналов в 7 футов глубины, 20 и 30 ширины, представляющих площадь в 800 000 квадратных локтей, потребуется не менее 200 000 рабочих дней, а может быть, и более, смотря по свойствам почвы. Синьоры ужаснулись. Со всех сторон посыпались на Содерини обвинения: недоумевали, как могла подобная нелепость прийти ему в голову.
А Никколо все еще надеялся, хлопотал, хитрил, обманывал, писал красноречивые послания, уверяя в несомненном успехе начатых работ. Но, несмотря на огромные, с каждым днем возраставшие, издержки, дело шло все хуже и хуже.
Точно зарок был положен на мессера Никколо: все, к чему ни прикасался он, – изменяло, рушилось, таяло в руках его, превращаясь в слова, в отвлеченные мысли, в злые шутки, которые больше всего вредили ему самому. И невольно вспоминал художник его постоянные проигрыши при объяснении правила выигрывать наверняка – неудачное освобождение Марии, злополучную македонскую фалангу.
В этом странном человеке, неутолимо жаждавшем действия и совершенно к нему не способном, могучем в мысли, бессильном в жизни, подобном лебедю на суше, – узнавал Леонардо себя самого.
В донесении гонфалоньеру и синьорам советовал он или тотчас отказаться от предприятия или кончить его, не останавливаясь ни перед какими расходами. Но правители Республики предпочли, по своему обыкновению, средний путь. Решили воспользоваться уже вырытыми каналами, как рвами, которые служили бы преградой движению пизанских войск, и, так как чересчур смелые замыслы Леонардо никому не внушали доверия, пригласили из Феррары других водостроителей и землекопов. Но, пока во Флоренции спорили, обличали друг друга, обсуждали вопрос во всевозможных присутственных местах, собраниях и советах по большинству голосов, белыми и черными шарами, – враги, не дожидаясь, пушечными ядрами разрушили то, что было сделано.
Все это предприятие до того, наконец, опротивело художнику, что он не мог слышать о нем без отвращения.
Дела давно позволяли ему вернуться во Флоренцию. Но, узнав случайно, что мессер Джоконда возвращается из Калабрии в первых числах октября, Леонардо решил приехать на десять дней позже, чтобы уже наверное застать мону Лизу во Флоренции.
Он считал дни. Теперь, при мысли о том, что разлука может затянуться, такой суеверный страх и тоска сжимали сердце его, что он старался не думать об этом, не говорил ни с кем и не расспрашивал, из опасения, как бы ему не сказали, что она не вернется к сроку. Рано поутру приехал во Флоренцию. Осенняя, тусклая, сырая – казалась она ему особенно милой, родственной, напоминавшей Джоконду. И день был ее – туманный, тихий, с влажно-тусклым, как бы подводным, солнцем, которое давало женским лицам особую прелесть.