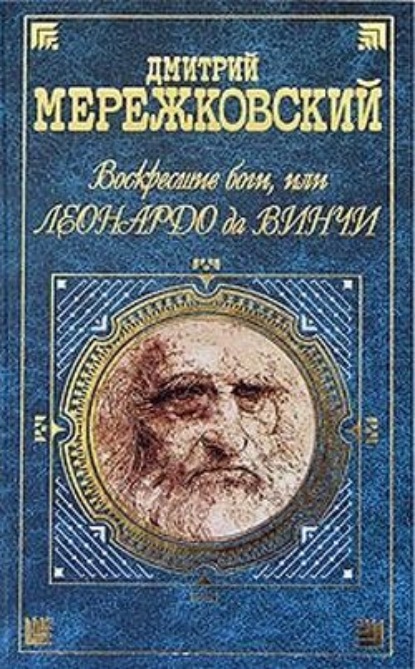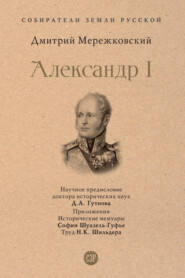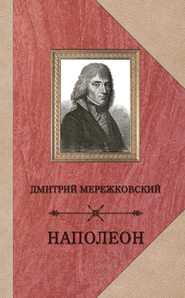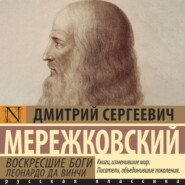По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Правда, – молвил Леонардо, – у меня есть такое дерево.
– Что ты говоришь?.. Неужели?..
– Нет, Бог спас меня, если только плоды в самом деле из моего сада. Теперь я понимаю, откуда эти слухи: изучая действие ядов, я хотел отравить персиковое дерево. Я сказал моему ученику Зороастро да Перетола, что персики отравлены. Но опыт не удался. Плоды безвредны. Должно быть, ученик поторопился и сообщил кому-нибудь…
– Я так и знал, – воскликнул герцог радостно, – никто не виноват в моей смерти! А между тем все они друг друга подозревают, ненавидят, боятся… О, если бы можно было сказать им все, как мы с тобой теперь говорим! Дядя считает себя моим убийцей, а я знаю, что он добрый, только слабый и робкий. Да и зачем бы ему убивать меня? Я сам готов отдать ему власть. Ничего мне не нужно… Я ушел бы от них, жил бы на свободе, в уединении, с друзьями. Сделался бы монахом или твоим учеником, Леонардо. Но никто не хотел поверить, что я в самом деле не желаю власти… И зачем, Боже мой, зачем они теперь это сделали? Не меня, себя они отравили невинными плодами твоего невинного дерева, бедные, слепые… Я прежде думал, что я несчастен, потому что должен умереть. Но теперь я понял все, учитель. Я больше ничего не хочу, ничего не боюсь. Мне хорошо, спокойно и так отрадно, как будто в знойный день я сбросил с себя пыльную одежду и вхожу в чистую, холодную воду. О, друг мой, я не умею сказать, но ты понимаешь, о чем я говорю? Ты ведь сам такой…
Леонардо молча, с тихою улыбкою, пожал ему руку.
– Я знал, – продолжал больной еще радостнее, – я знал, что ты поймешь меня… Помнишь, ты сказал мне однажды, что созерцание вечных законов механики, естественной необходимости учит людей великому смирению и спокойствию? Тогда я не понял. Но теперь, в болезни, в одиночестве, в бреду, как часто вспоминал я тебя, твое лицо, твой голос, каждое слово твое, учитель! Знаешь ли, мне иногда кажется: разными путями мы пришли с тобой к одному, ты – в жизни, я – в смерти…
Двери открылись, вбежал карлик с испуганным видом и объявил:
– Мона Друда!
Леонардо хотел уйти, но герцог его удержал.
В комнату вошла старая няня Джан-Галеаццо, держа в руках небольшую склянку с желтоватой мутной жидкостью – скорпионовою мазью.
В середине лета, когда солнце в созвездии Пса, ловили скорпионов, опускали их живыми в столетнее оливковое масло с крестовником, матридатом и змеевиком, отстаивали на солнце в течение пятидесяти дней и каждый вечер мазали больному под мышками, виски, живот и грудь около сердца. Знахарки утверждали, что нет лучшего лекарства не только против всех ядов, но и против колдовства, наваждения и порчи.
Старуха, увидев Леонардо, сидевшего на краю постели, остановилась, побледнела, и руки ее так затряслись, что она едва не выронила склянки.
– С нами сила Господня! Матерь пресвятая Богородица!..
Крестясь, бормоча молитвы, пятилась она к двери и, выйдя из комнаты, побежала так поспешно, как только позволяли ей старые ноги, к своей госпоже, мадонне Изабелле, сообщить страшную весть.
Мона Друда была уверена, что злодей Моро и его приспешник Леонардо извели герцога, если не ядом, то глазом, порчею, вынутым следом или какими-либо другими бесовскими чарами.
Герцогиня молилась в часовне, стоя на коленях пред образом.
Когда мона Друда доложила ей, что у герцога – Леонардо, она вскочила и воскликнула:
– Не может быть! Кто его пустил?..
– Кто пустил? – пробормотала старуха, покачав головой. – Верите ли, ваша светлость, и ума не приложу, откуда он взялся, окаянный! Точно из земли вырос или в трубу влетел, прости Господи! Дело, видно, нечистое. Я уже давно докладывала вашей светлости…
В часовню вошел паж и почтительно преклонил колено:
– Светлейшая мадонна, угодно ли будет вам и вашему супругу принять его величество, христианнейшего короля Франции?
VII
Карл VIII остановился в нижних покоях Павийского замка, роскошно убранных для него герцогом Лодовико Моро.
Отдыхая после обеда, король слушал чтение только что по его заказу переведенной с латинского на французский язык, довольно безграмотной книги: «Чудеса Города Рима – Mirabilia Urbus Romae».
Одинокий, запуганный отцом своим, болезненный ребенок, Карл, проведя печальные годы в пустынном замке Амбуаз, воспитывался на рыцарских романах, которые окончательно вскружили ему и без того уже слабую голову. Очутившись на престоле Франции и вообразив себя героем сказочных подвигов, во вкусе тех, какие повествуются о странствующих рыцарях Круглого Стола, Ланселоте и Тристане, двадцатилетний мальчик, неопытный и застенчивый, добрый и взбалмошный, задумал исполнить на деле то, что вычитал из книг. «Сын бога Марса, потомок Юлия Цезаря», по выражению придворных летописцев, спустился он в Ломбардию, во главе громадного войска, для завоевания Неаполя, Сицилии, Константинополя, Иерусалима, для низвержения Великого Турка, совершенного искоренения ереси Магометовой и освобождения Гроба Господня от ига неверных.
Слушая «Чудеса Рима» с простодушным доверием, король предвкушал славу, которую приобретет завоеванием столь великого города.
Мысли его путались. Он чувствовал боль под ложечкой и тяжесть в голове от вчерашнего слишком веселого ужина с миланскими дамами. Лицо одной из них, Лукреции Кривелли, всю ночь снилось ему.
Карл VIII ростом был мал и лицом уродлив. Ноги имел кривые, тонкие, как спицы, плечи узкие, одно выше другого, впалую грудь, непомерно большой крючковатый нос, волосы редкие, бледно-рыжие, странный желтоватый пух вместо усов и бороды. В руках и в лице судорожное подергивание. Вечно открытые, как у маленьких детей, толстые губы, вздернутые брови, громадные белесоватые и близорукие глаза навыкате придавали ему выражение унылое, рассеянное и вместе с тем напряженное, какое бывает у людей, слабых умом. Речь была невнятной и отрывочной. Рассказывали, будто бы король родился шестипалым, и для того, чтобы это скрыть, ввел при дворе безобразную моду широких, закругленных, наподобие лошадиных копыт, мягких туфель из черного бархата.
– Тибо, а Тибо, – обратился он к придворному валедешамбру, прерывая чтение, со своим обычным рассеянным видом, заикаясь и не находя нужных слов, – мне, братец, того… как будто пить хочется. А? Изжога, что ли? Принеси-ка вина, Тибо…
Вошел кардинал Бриссоне и доложил, что герцог ожидает короля.
– А? А? Что такое? Герцог?.. Ну, сейчас. Только выпью…
Карл взял кубок, поданный придворным.
Бриссоне остановил короля и спросил Тибо:
– Наше?
– Нет, монсиньор, – из здешнего погреба. У нас все вышло.
Кардинал выплеснул вино.
– Простите, ваше величество. Здешние вина могут быть вредными для вашего здоровья. Тибо, вели кравчему сбегать в лагерь и принести бочонок из походного погреба.
– Почему? А? Что, что такое?.. – бормотал король в недоумении.
Кардинал шепнул ему на ухо, что опасается отравы, ибо от людей, которые уморили законного государя своего, можно ожидать всякого предательства, и, хотя нет явных улик, осторожность не мешает.
– Э, вздор! Зачем? Хочется пить, – молвил Карл, подергивая плечом с досадой, но покорился.
Герольды побежали вперед.
Четыре пажа подняли над королем великолепный балдахин из голубого шелка, затканный серебряными французскими лилиями, сенешаль накинул ему на плечи мантию с горностаевой оторочкой, с вышитыми по красному бархату золотыми пчелами и рыцарским девизом: «Король пчел не имеет жала – Le roi des abeilles n’a pas d’aiguillon», – и по мрачным запустелым покоям Павийского замка направилось шествие в комнаты умирающего.
Проходя мимо часовни, Карл увидел герцогиню Изабеллу. Почтительно снял берет, хотел подойти и, по старозаветному обычаю Франции, поцеловать даму в уста, назвав ее «милой сестрицей».
Но герцогиня подошла к нему сама и бросилась к его ногам.
– Государь, – начала она заранее приготовленную речь, – сжалься над нами! Бог тебя наградит. Защити невинных, рыцарь великодушный! Моро отнял у нас все, похитил престол, отравил супруга моего, законного герцога миланского, Джан-Галеаццо. В собственном доме своем окружены мы убийцами…
Карл плохо понимал и почти не слушал того, что она говорила.
– А? А? Что такое? – лепетал он, точно спросонок, судорожно подергивая плечом и заикаясь. – Ну, ну, не надо… Прошу вас… не надо же, сестрица… Встаньте, встаньте!
Но она не вставала, ловила его руки, целовала их, хотела обнять его колени и, наконец, заплакав, воскликнула с непритворным отчаянием:
– Если и вы меня покинете, государь, я наложу на себя руки!..
Король окончательно смутился, и лицо его болезненно сморщилось, как будто он сам готов был заплакать.