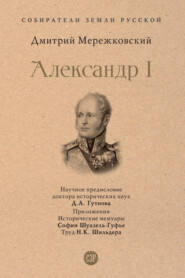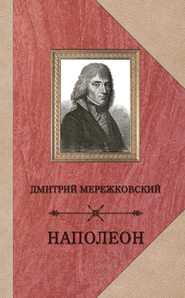По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смерть Богов. Юлиан Отступник
Серия
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все обратились к нему, спрашивая его мнения относительно дактилей и анапестов.
Он откровенно признался, что об этом никогда не думал и полагает, что оратору следует более заботиться о содержании речи, чем о таких мелочах.
Мамертин, Лампридий, Гефестион вознегодовали: по их мнению, содержание речи безразлично; оратору должно быть все равно, говорить за или против; не только смысл имеет мало значения, но даже сочетание слов – второстепенное дело, главное – звуки, музыка речи, новые сладкогласные сочетания букв; надо, чтобы и варвар, который ни слова не понимает по-гречески, чувствовал прелесть речи.
– Вот два стиха Проперция,-сказал Гаргилиан,-вы Увидите, что значат звуки в поэзии и как ничтожен смысл.
Слушайте:
Et Veneris dominae volucres, mea turba, columbae Tinguunt gorgoneo punica rostra lacu. венеры владычицы голуби, милая стая, Мочат в Горгонском ключе тут же свой пурпурный клюв.
Пропорций. Элегии, 3-я элегия.
Перевод с лат. А. А. Фета.
Какое очарование! Какое пение! Что мне за дело до смысла? Вся красота – в звуках, в подборе гласных и согласных. За эти звуки я отдал бы добродетель Ювенала, мудрость Лукреция. Нет, вы только обратите внимание, какая сладость, какое журчание:
Et Veneris dominae volucres, mea turba, columbae!
И он причмокнул верхней губой от удовольствия.
Все повторяли два стиха Пропервдя, не могли насытиться их прелестью. Глаза у них загорелись. Они друг друга возбуждали к словесной оргии.
– Вы только послушайте,-шептал Мамертин своим мягким, замирающим голосом, похожим на Эолову арфу:
Tinguunt Gorgoneo.
– Tinguunt Gorgoneo!-повторял чиновник префекта.-Клянусь Палладой, самому небу приятно: точно глотаешь струю густого, теплого вина, смешанного с аттическим медом:
Tinguunt Gorgoneo – – Заметьте, сколько подряд букв g, – это воркование горлицы. И дальше: punica rostra lacu – – Удивительно, неподражаемо! – шептал Лампридий, закрывая глаза от наслаждения.
Юлиану было совестно и вместе с тем забавно смотреть на это сладострастное опьянение звуками.
– Надо, чтобы слова были слегка бессмысленны,-заключил Лампридий с важностью,-чтобы они текли, журчали, пели, не задевая ни слуха, ни сердца, – тогда только возможно полное наслаждение звуками.
В дверях, на которые все время смотрел Юлиан, словно ожидая кого-то, – неслышно, никем не замеченный, появился, как тень, белый и стройный человеческий облик.
Ставни были широко открыты; в комнату падал чистый лунный свет и смешивался с красным отблеском светильников на мозаике пола, блестевшего, как зеркало, на стенах с живописью, изображавшей сонного Эндимиона под лаской ЛунЫ.
Белое видение не двигалось, как изваяние; Древнеафиннский пеплум из мягкой серебристой шерсти падал длинными прямыми складками, удержанный под грудью тонким поясом; лунный свет озарял пеплум; лицо оставалось в полумраке. Вошедшая смотрела на Юлиана; Юлиан смотрел на нее. Они улыбались друг другу, зная, что эта улыбка не замечена никем. Она положила палец на губы и прислушивалась к тому, что говорили за столом.
Вдруг Мамертин, который оживленно рассуждал с Лампридием о грамматических отличиях первого и второго аориста, воскликнул:
– Арсиноя! Наконец-то! Ты решилась для нас покинуть физический прибор и статуи?
Она вошла и с простою улыбкой приветствовала всех.
Это была та самая метательница диска, которую, месяц назад, Юлиан видел в покинутой палестре. Стихотворец Публий Оптатиан, знавший все и всех в Афинах, познакомился с Гортензием и Арсиноей и ввел Юлиана в их дом.
Отец Арсинои, старый римский сенатор Гельвидий Приск умер в последние годы царствования Константина Великого. Двух дочерей от одной германской пленницы, Арсиною и Мирру, Гельвидий, умирая, оставил на попечение старому другу Квинту Гортензию, уважаемому им за любовь к древнему Риму и ненависть к христианству.
Дальний родственник Арсинои, обладатель огромных заводов пурпура в Сидоне, завещал ей несметные богатства.
Ее окружала толпа поклонников. По тому, как она одевалась, причесывалась, держала себя с безукоризненной простотой, можно было принять ее за настоящую гречанку, каких оставалось уже немного. Но в неправильных чертах ее лица видна была новая северная кровь.
Одно время Арсиноя увлекалась науками, работала в Александрийском музее у знаменитых ученых; ее пленяла физика Эпикура, Демокрита, Лукреция; ей нравилось это учение, освобождавшее душу «от страха богов». Потом с такой же почти болезненной и торопливой страстностью отдалась она ваянию. В Афины приехала, чтобы изучать лучшие древние образцы Фидия, Скопаса и Праксителя.
– А вы все о грамматике? – с усмешкой обратилась дочь Гельвидия Приска к собеседникам, входя в залу. – Не стесняйтесь, продолжайте. Я не буду спорить – хочу есть.
Целый день работала. Мальчик, налей вина!
– Друзья мои, – продолжала Арсиноя, – вы несчастные люди со всеми вашими цитатами Демосфена, правилами Квинтиллиана. Берегитесь: красноречие погубит вас.
Хотелось бы мне увидеть, наконец, человека, которому дела нет до Гомера и Цицерона, который говорит, не думая о придыханиях и аористах. Юлиан, пойдем после ужина к морю: я сегодня не могу слушать споров о дактилях и анапестах…
– Ты угадала мою мысль, Арсиноя,-пробормотал Гаргилиан, злоупотребивший гусиной печенкой под шафранным соусом: почти всегда к самому концу ужина вместе с тяжестью в желудке чувствовал он возмущение против словесности.
– Literrarum intemporantia laboramus, как выразился учитель Нерона, хитрый Сенека. Да,"да, вот наше горе!
Мы страдаем от словесной невоздержанности. Мы сами себя отравляем…
И впадая в задумчивость, он вынул зубочистку мастикового дерева. На жирном умном лице его выражались отвращение и скука.
Юлиан и Арсиноя спустились по кипарисовой аллее к морю. Серебряный лунный путь уходил до края неба.
Слышался прибой о меловые глыбы прибрежья. Здесь была полукруглая скамья. Над нею Артемида-Охотница, в короткой тунике, с полумесяцем в кудрях, с луком и колчаном, с двумя остромордыми псами, казалась живой в лунном сиянии. Они сели.
Она указала ему на холм Акрополя, с едва белевшими столбами Парфенона, и возобновила разговор, который уже не раз бывал у них прежде:
– Посмотри, как хорошо! И ты хотел бы все это разрушить, Юлиан?
Не отвечая, он потупил взор.
– Я много думала о том, что ты мне говорил в прошлый раз, – о нашем смирении, – продолжала Арсиноя тихо, как будто про себя. – Был ли Александр, сын Филиппов, смиренным? А разве в нем нет добродетели?
Юлиан молчал.
– А Брут, Брут, убийца Юлия Цезаря? Если бы Брут подставлял левую щеку, когда его ударяли по правой,думаешь ли ты, он был бы прекраснее? Или считаете вы Брута злодеем, галилеяне?-Отчего мне кажется порою, что ты лицемеришь, Юлиан, что эта темная одежда не пристала тебе?..
Она вдруг обернула к нему свое лицо, озаренное луною, и посмотрела ему прямо в глаза пристальным взором.
– Чего ты хочешь, Арсиноя?-произнес он, бледнея.
– Хочу, чтобы ты был моим врагом! – воскликнула девушка страстно.-Ты не можешь так пройти, не сказав, кто ты. Знаешь, я иногда думаю: уж пусть бы лучше Афины и Рим лежали в развалинах; лучше сжечь труп, чем оставить непогребенным. А все эти друзья наши, грамматики, риторы, стихотворцы, сочинители панегириков императорам – тлеющий труп Эллады и Рима. Страшно с ними, как с мертвыми. О да, вы можете торжествовать, галилеяне! Скоро на земле ничего не останется, кроме мертвых костей и развалин. И ты, Юлиан… Нет, нет! Не может быть.
Я не верю, что ты с ними-против меня, против Эллады!..
Юлиан стоял перед нею, бледный и безмолвный. Он хотел уйти. Она схватила его за руку:
Он откровенно признался, что об этом никогда не думал и полагает, что оратору следует более заботиться о содержании речи, чем о таких мелочах.
Мамертин, Лампридий, Гефестион вознегодовали: по их мнению, содержание речи безразлично; оратору должно быть все равно, говорить за или против; не только смысл имеет мало значения, но даже сочетание слов – второстепенное дело, главное – звуки, музыка речи, новые сладкогласные сочетания букв; надо, чтобы и варвар, который ни слова не понимает по-гречески, чувствовал прелесть речи.
– Вот два стиха Проперция,-сказал Гаргилиан,-вы Увидите, что значат звуки в поэзии и как ничтожен смысл.
Слушайте:
Et Veneris dominae volucres, mea turba, columbae Tinguunt gorgoneo punica rostra lacu. венеры владычицы голуби, милая стая, Мочат в Горгонском ключе тут же свой пурпурный клюв.
Пропорций. Элегии, 3-я элегия.
Перевод с лат. А. А. Фета.
Какое очарование! Какое пение! Что мне за дело до смысла? Вся красота – в звуках, в подборе гласных и согласных. За эти звуки я отдал бы добродетель Ювенала, мудрость Лукреция. Нет, вы только обратите внимание, какая сладость, какое журчание:
Et Veneris dominae volucres, mea turba, columbae!
И он причмокнул верхней губой от удовольствия.
Все повторяли два стиха Пропервдя, не могли насытиться их прелестью. Глаза у них загорелись. Они друг друга возбуждали к словесной оргии.
– Вы только послушайте,-шептал Мамертин своим мягким, замирающим голосом, похожим на Эолову арфу:
Tinguunt Gorgoneo.
– Tinguunt Gorgoneo!-повторял чиновник префекта.-Клянусь Палладой, самому небу приятно: точно глотаешь струю густого, теплого вина, смешанного с аттическим медом:
Tinguunt Gorgoneo – – Заметьте, сколько подряд букв g, – это воркование горлицы. И дальше: punica rostra lacu – – Удивительно, неподражаемо! – шептал Лампридий, закрывая глаза от наслаждения.
Юлиану было совестно и вместе с тем забавно смотреть на это сладострастное опьянение звуками.
– Надо, чтобы слова были слегка бессмысленны,-заключил Лампридий с важностью,-чтобы они текли, журчали, пели, не задевая ни слуха, ни сердца, – тогда только возможно полное наслаждение звуками.
В дверях, на которые все время смотрел Юлиан, словно ожидая кого-то, – неслышно, никем не замеченный, появился, как тень, белый и стройный человеческий облик.
Ставни были широко открыты; в комнату падал чистый лунный свет и смешивался с красным отблеском светильников на мозаике пола, блестевшего, как зеркало, на стенах с живописью, изображавшей сонного Эндимиона под лаской ЛунЫ.
Белое видение не двигалось, как изваяние; Древнеафиннский пеплум из мягкой серебристой шерсти падал длинными прямыми складками, удержанный под грудью тонким поясом; лунный свет озарял пеплум; лицо оставалось в полумраке. Вошедшая смотрела на Юлиана; Юлиан смотрел на нее. Они улыбались друг другу, зная, что эта улыбка не замечена никем. Она положила палец на губы и прислушивалась к тому, что говорили за столом.
Вдруг Мамертин, который оживленно рассуждал с Лампридием о грамматических отличиях первого и второго аориста, воскликнул:
– Арсиноя! Наконец-то! Ты решилась для нас покинуть физический прибор и статуи?
Она вошла и с простою улыбкой приветствовала всех.
Это была та самая метательница диска, которую, месяц назад, Юлиан видел в покинутой палестре. Стихотворец Публий Оптатиан, знавший все и всех в Афинах, познакомился с Гортензием и Арсиноей и ввел Юлиана в их дом.
Отец Арсинои, старый римский сенатор Гельвидий Приск умер в последние годы царствования Константина Великого. Двух дочерей от одной германской пленницы, Арсиною и Мирру, Гельвидий, умирая, оставил на попечение старому другу Квинту Гортензию, уважаемому им за любовь к древнему Риму и ненависть к христианству.
Дальний родственник Арсинои, обладатель огромных заводов пурпура в Сидоне, завещал ей несметные богатства.
Ее окружала толпа поклонников. По тому, как она одевалась, причесывалась, держала себя с безукоризненной простотой, можно было принять ее за настоящую гречанку, каких оставалось уже немного. Но в неправильных чертах ее лица видна была новая северная кровь.
Одно время Арсиноя увлекалась науками, работала в Александрийском музее у знаменитых ученых; ее пленяла физика Эпикура, Демокрита, Лукреция; ей нравилось это учение, освобождавшее душу «от страха богов». Потом с такой же почти болезненной и торопливой страстностью отдалась она ваянию. В Афины приехала, чтобы изучать лучшие древние образцы Фидия, Скопаса и Праксителя.
– А вы все о грамматике? – с усмешкой обратилась дочь Гельвидия Приска к собеседникам, входя в залу. – Не стесняйтесь, продолжайте. Я не буду спорить – хочу есть.
Целый день работала. Мальчик, налей вина!
– Друзья мои, – продолжала Арсиноя, – вы несчастные люди со всеми вашими цитатами Демосфена, правилами Квинтиллиана. Берегитесь: красноречие погубит вас.
Хотелось бы мне увидеть, наконец, человека, которому дела нет до Гомера и Цицерона, который говорит, не думая о придыханиях и аористах. Юлиан, пойдем после ужина к морю: я сегодня не могу слушать споров о дактилях и анапестах…
– Ты угадала мою мысль, Арсиноя,-пробормотал Гаргилиан, злоупотребивший гусиной печенкой под шафранным соусом: почти всегда к самому концу ужина вместе с тяжестью в желудке чувствовал он возмущение против словесности.
– Literrarum intemporantia laboramus, как выразился учитель Нерона, хитрый Сенека. Да,"да, вот наше горе!
Мы страдаем от словесной невоздержанности. Мы сами себя отравляем…
И впадая в задумчивость, он вынул зубочистку мастикового дерева. На жирном умном лице его выражались отвращение и скука.
Юлиан и Арсиноя спустились по кипарисовой аллее к морю. Серебряный лунный путь уходил до края неба.
Слышался прибой о меловые глыбы прибрежья. Здесь была полукруглая скамья. Над нею Артемида-Охотница, в короткой тунике, с полумесяцем в кудрях, с луком и колчаном, с двумя остромордыми псами, казалась живой в лунном сиянии. Они сели.
Она указала ему на холм Акрополя, с едва белевшими столбами Парфенона, и возобновила разговор, который уже не раз бывал у них прежде:
– Посмотри, как хорошо! И ты хотел бы все это разрушить, Юлиан?
Не отвечая, он потупил взор.
– Я много думала о том, что ты мне говорил в прошлый раз, – о нашем смирении, – продолжала Арсиноя тихо, как будто про себя. – Был ли Александр, сын Филиппов, смиренным? А разве в нем нет добродетели?
Юлиан молчал.
– А Брут, Брут, убийца Юлия Цезаря? Если бы Брут подставлял левую щеку, когда его ударяли по правой,думаешь ли ты, он был бы прекраснее? Или считаете вы Брута злодеем, галилеяне?-Отчего мне кажется порою, что ты лицемеришь, Юлиан, что эта темная одежда не пристала тебе?..
Она вдруг обернула к нему свое лицо, озаренное луною, и посмотрела ему прямо в глаза пристальным взором.
– Чего ты хочешь, Арсиноя?-произнес он, бледнея.
– Хочу, чтобы ты был моим врагом! – воскликнула девушка страстно.-Ты не можешь так пройти, не сказав, кто ты. Знаешь, я иногда думаю: уж пусть бы лучше Афины и Рим лежали в развалинах; лучше сжечь труп, чем оставить непогребенным. А все эти друзья наши, грамматики, риторы, стихотворцы, сочинители панегириков императорам – тлеющий труп Эллады и Рима. Страшно с ними, как с мертвыми. О да, вы можете торжествовать, галилеяне! Скоро на земле ничего не останется, кроме мертвых костей и развалин. И ты, Юлиан… Нет, нет! Не может быть.
Я не верю, что ты с ними-против меня, против Эллады!..
Юлиан стоял перед нею, бледный и безмолвный. Он хотел уйти. Она схватила его за руку: