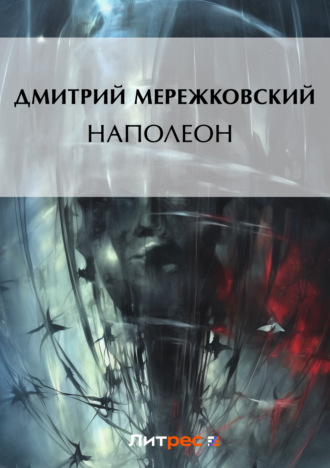
Наполеон
«Я уничтожу Англию, и Франция будет владычицей мира», – говорит после Маренго. [746] «Сосредоточим всю нашу деятельность на флоте, сокрушим Англию, и вся Европа будет у наших ног».
Амиенский мир, казавшийся вечным, длился четырнадцать месяцев. Мысль о военном десанте в Англии, о поражении врага в самое сердце не покидала ни Первого Консула, ни Императора. 19 июля 1805 года он отправился в Булонский лагерь на берегу Ламанша. В лагере уже два года шли приготовления к десанту, земляные и водяные работы, углублялись гавани, строились верфи, арсеналы, плотины, молы, окопы, укрепления. Собиралась «Великая Армия», так впервые названная здесь, в Булонском лагере. Шесть корпусов ее расположились на венчающем гавань амфитеатре холмов, с императорскою ставкою посередине.
«Национальная флотилия» из 2365 судов различной величины и устройства, от канонирских шлюпок до линейных кораблей, с двенадцатитысячным экипажем, подымала транспорт в 160 000 человек, 10 000 лошадей и 650 пушек.
Сложная операция десанта могла быть произведена в восемь часов: надо было только переплыть через пролив в тридцать два километра. «Восемь часов благоприятного ночного времени решили бы судьбы мира»,– писал Первый Консул адмиралу Гантому, и потом император – адмиралу Латуш-Тревилю: «Если мы овладеем проливом только на шесть часов, мы овладеем миром». [747]
В Амиене воздвигнута триумфальная арка с надписью: «Путь в Англию». Под императорской ставкой, в Булони, найдена в земле древнеримская секира, будто бы из лагеря Юлия Цезаря, первого завоевателя Англии: как бы две тысячи лет всемирной истории венчались Булонским лагерем.
15 августа, в день рождения Наполеона, происходила торжественная церемония – раздача орденских крестов новоучрежденного Почетного Легиона. Император сидел на тысячелетнем железном троне короля Дагобера, на верхушке холма, откуда обозревал весь лагерь и море, покрытое судами флотилии, как новый Ксеркс. Манием руки, казалось, мог сокрушить Англию – овладеть миром.
Но в Париже не верили в десант. «Он возбуждал всеобщий смех, – вспоминает Буррьенн. – Трудно было, в самом деле, представить себе предприятие более разорительное, бесполезное и смешное». [748] Появились карикатуры: булонские корабли – ореховые скорлупки в умывальнике; английский матрос, сидя на берегу, курит трубку, и от дыма ее, как от бури, бежит французский флот. В Англии тоже смеялись, но и дрожали.
«Много спорили о том, серьезно ли Бонапарт замышляет поход в Англию,– говорит генерал Мармон. – Я отвечаю с убеждением, с уверенностью: да, серьезно. Этот поход был самою пламенною мечтою всей жизни его, самою дорогою надеждою. Возможность десанта была несомненна. Бонапарт намеревался смести артиллерийским огнем Дуврскую крепость и принудить ее к сдаче в одно мгновение. „Хорошо, что английская экспедиция не началась в ту самую минуту, как Австрия выступила против нас с такими огромными силами“,– сказал я ему однажды, уже в начале Австрийской кампании. „Если бы мы, высадившись в Англии, вошли в Лондон, как это произошло бы несомненно, то и страсбургских женщин хватило бы для защиты наших границ“,– ответил мне Бонапарт. Никогда ничего он так горячо не желал, как этого». [749]
«Я провозгласил бы республику в Англии, уничтожение аристократии, палаты пэров, экспроприацию всех, кто воспротивился бы мне, свободу, равенство и верховную власть народа. В таком большом городе, как Лондон, много черни и недовольных; грозная партия встала бы за меня. Я поднял бы также восстание в Ирландии. [750] Нас призывала бы большая часть англичан. После высадки мне предстояло бы только одно правильное сражение с исходом несомненным, и я оказался бы в Лондоне… Английский народ, стонавший под игом олигархии, тотчас присоединился бы к нам; мы были бы для него союзниками, пришедшими его освободить; мы пришли бы к нему с магическими словами: Свобода, Равенство». [751]
Успех десанта зависел от морской диверсии адмирала Вилльнева, посланного с французским флотом на Антильские острова, для отвлечения английской эскадры от Ламанша. Первая часть диверсии Вилльневу удалась: он дошел до Мартиники, и английский флот погнался за ним. Но на возвратном пути, встретив адмирала Нельсона, у Ферроля, Вилльнев повернул на юг и ушел в Кадикс, вместо того, чтобы идти дальше, как ему было приказано, на Рошфор и Брест, усилиться здесь французскими и испанскими эскадрами и, появившись неожиданно в Ламанше, очистить на несколько дней пролив от английского флота, «что сделало бы успех десанта почти несомненным». [752]
«Выходите же, выходите в Ламанш, не теряйте ни минуты! Англия наша,– появитесь только на двадцать четыре часа», – писал Наполеон Вилльневу 22 августа, а 23-го пришло известие, что Вилльнев ушел на юг. Этим участь десанта решалась. [753]
Так же как некогда в Египте и Сирии, исполинская химера лопнула, как мыльный пузырь; гора мышь родила. Миллионы брошены в воду, пущены на ветер; национальная флотилия – только «ореховые скорлупки в умывальнике», и весь Булонский лагерь – жалкий выкидыш. Но опять, как тогда, лопнула одна химера,– возникла другая: всю Европу поднять на Англию, двинуть всю земную сушу на море.
В тот же день, 23 августа, Наполеон объявляет войскам, что «Австрия, соблазненная золотом Англии, выступила против Франции»; велит снять Булонский лагерь и диктует план Австрийской кампании. Все движение Великой Армии, число маршей, расположение и назначение войсковых частей предвидены, угаданы, рассчитаны с математической точностью. Знание соединяется с пророчеством, математика – с ясновидением. Булонский лагерь снят, и стовосьмидесятитысячная армия перенесена как по волшебству с берегов Ламанша на берег Дуная. Вся она движется с такой быстротой, в таком порядке, что если бы кто-нибудь мог обозреть ее с высоты, то подумал бы, что это стройно пляшущий хор Диониса, где хоровожатый – сам Бог.
И с высоты, как некий бог,Казалось, он парил над ними,И двигал всем, и все стерегОчами чудными своими.[754]Наполеонова империя созиждется на восьми столпах – восьми победах; четырех южных: Лоди, Арколь, Риволи, Маренго,– которыми завоеваны страны Средиземного бассейна, от Гибралтара до Адриатики; и четырех северных: Ульм, Аустерлиц, Иена, Фридланд,– которыми завоевана Средняя Европа, от Рейна до Немана.
Южные победы – трудные; северные – легкие; в тех Наполеон – восходящее солнце, в этих – неподвижное солнце в зените; те – разные, радужные, как лучи восхода, эти – одинаковые, белые, как свет полдня; те власть его усугубляют, эти расширяют; те – национальные; эти – всемирные; те – героичны, а эти – но для этих у нас нет слова; древние греки назвали бы их «демоничными»; но, может быть, только один из нас, Гете, понял бы, что это значит: он так и определяет существо Наполеона, как «демоническое»,– разумеется, не в нашем, христианском, смысле, а в древнем, языческом: daimon – земной бог. Тем, кто не знает законов «демоничного», кажется оно «чудесным», «сверхъестественным»; но, может быть, оно так же просто, как то, что нам кажется «необходимым», «естественным».
Что дает Наполеону такую, в самом деле как бы чудесную, власть над людьми и событиями? «Род магнетического предвидения, une sorte de prévision magnétique»,– говорит об этом школьный товарищ и секретарь его, Буррьенн. [755] «У меня было внутреннее чувство того, что меня ожидает». – «Со мной никогда ничего не случалось, чего бы я не предвидел»,– говорит сам Наполеон. [756]
Это у него всегда; но в те два года, 1805 – 1807, от Ульма до Фридланда, больше, чем когда-либо.
Люди слабы, потому что слепы, не знают, что будет. Наполеон знает – помнит будущее, как прошлое. Знать – мочь. Все может, потому что все знает. Видит сквозь стены, как сквозь стекла; проходит сквозь стены, как дух. Так легко побеждает, что кажется, ему и руки не нужно протягивать, чтобы срывать победы: сами они падают к ногам его, как зрелые плоды. Это уже не война, а триумфальное шествие. Если бы это продлилось,– он пошел бы и победил весь мир. Но и в тех двух годах это только миг – дней сорок, от Ульма до Аустерлица. Дальше – меркнет, слабеет: последняя легкая и светлая победа – Фридланд. И он, кажется, сам это чувствует: кончает войну Тильзитским миром, может быть, надеясь, что это мир окончательный: Англия будет побеждена европейской блокадой – сушей, опрокинутой на море.
Южные победы, молнии, описывать трудно; но еще труднее – северные – неподвижный, ослепительно белый свет полдня. Да тут и описывать нечего: все одно и то же; надо повторять бесконечно: знает – может; предвидит – побеждает.
Ульмский план Наполеона – закинуть исполинскую сеть от Рейна до Дуная, чтобы поймать в нее австрийского фельдмаршала Мака. Тот сам идет в ловушку. «Похоже на то, что не Маком, а мной задуман план кампании»,– говорит Наполеон, переходя через Рейн, 1 октября 1805 года и предсказывает: «Кавдинскими ущельями для Мака будет Ульм». [757] Как предсказал, так и сделалось: вся австрийская армия попалась в Ульм, как рыба в сеть.
Может быть, Мак не был таким глупцом и трусом, как это кажется; но обезумел под чарующим взором «демона», как птица – под взором змеи. Мог бы выйти из Ульма или запереться в нем, чтобы выждать союзной русской армии, которая шла к нему на помощь форсированными маршами; но не вышел и не заперся: 20 октября капитулировал, почти без боя.
Меньше чем в три недели, рассеяв или уничтожив восемьдесят тысяч австрийцев, Наполеон идет на Вену, овладевает ею, тоже почти без боя, и переходит через Дунай, преследуя австро-руссов, отступающих в Моравию.
1 декабря 1805 года, в ночь накануне Аустерлица, когда император объезжает войска, солдаты, вспомнив, что этот день – первая годовщина коронования, зажигают привязанные к штыкам сосновые ветки с пуками соломы и приветствуют его шестьюдесятью тысячами факелов: служат огненную всенощную богу Митре, Непобедимому Солнцу, – самому императору. Точно он заразил их всех своим «магнетическим предвиденьем»: завтрашнее «солнце Аустерлица» уже взошло для них в ночи.
2 декабря бой начался на рассвете. Австро-руссы так же послушно, как Мак, исполняют план Наполеона: идут в западню – болотную низину Тельница. Кавалерийская атака Мюрата оттесняет их к Аустерлицу. Корпуса маршалов Сульта и Бернадотта, скрытые туманом в овраге Гольбаха, внезапно выходят из него и атакуют высоты Пратцена. В эту минуту, как сказано в бюллетене, «солнце Аустерлица взошло, лучезарное, le soleil d’Austerlitz se leva radieux!»
Не папа – короной кесарей, а сам император венчал себя этим солнцем.
14 октября 1806 года,– Иена. Может быть, саксонский пастор, указавший французам обходную тропинку на высотах Ландграфенберга, не был таким Иудой Предателем, как это кажется; но обезумел, так же как злополучный Мак, под чарующим взглядом демона; понял, что с ним нельзя бороться,– все равно победит.
Опять Наполеону помогает утренний туман, и солнце Иены – «солнце Аустерлица» – восходит, опять лучезарное, освещая французское войско, внезапно кидающееся с высот Ландграфенберга на захваченную врасплох прусско-саксонскую армию.
Аустерлиц отдал Наполеону Австрию; Иена отдает ему Пруссию. 27 октября 1806 года он входит в Берлин триумфатором и отсылает в Париж шпагу Фридриха Великого.
Первая угроза судьбы победителю – Эйлау, 8 февраля 1807 года. Здесь дерутся с ним русские так, как еще никто никогда не дрался. «Бойни такой не бывало с изобретенья пороха»,– вспоминает очевидец. [758] Корпус. Ожеро почти истреблен артиллерией. Во время боя подымается метель, бьющая французам прямо в лицо таким густым снегом, что в пятнадцати шагах не видно; люди не знают, где враг, и стреляют часто по своим. Ужас Двенадцатого года – ужас рока глянул в глаза Наполеона в этой ледяной, железной и кровавой ночи Эйлау.
Русские наконец отступили, но оставив врагу только поле сражения с тридцатью тысячами убитых и раненых.
«Какое ужасное зрелище! – повторял Наполеон, обходя это поле. – Вот что должно бы внушить государям любовь к миру и отвращение к войне!» Вспомнил, может быть, Яффу: «Никогда война не казалась мне такою мерзостью!»
Но Эйлау только туча на солнце: пронеслась, и солнце опять сияет, лучезарное. 14 июня 1807 года – годовщина Маренго – Фридланд. Все то же: «магнетическое предвидение» победы – уже она сама; ослепительно белый свет полдня. «Около полудня, когда Наполеон диктовал план сражения, лицо его было так радостно, как будто он уже победил». [759]
Тут же завтракает, в виду неприятеля, под свистящими пулями, и, когда его остерегают, говорит с улыбкой: «Сколько бы русские ни мешали нам завтракать, мы еще больше помешаем им ужинать!» Делая смотр войскам, все повторяет в ответ на приветственные клики солдат «Счастливый день, счастливый день, годовщина Маренго!» – и лицо его как солнце. [760]
В начале боя у французов только двадцать шесть тысяч штыков против семидесяти пяти. Генералы предлагают Наполеону отложить бой на завтра. «Нет, нет, дважды на такую ошибку врага нельзя надеяться!» – отвечает он, заметив, что генерал Беннигсен, главнокомандующий русской армией, может быть обойден в тыл, окружен и раздавлен. К «ужину», как предсказал Наполеон, русские отступают, и Беннигсен уходит за Неман.
Неман – таинственный рубеж Востока и Запада. Наполеон, подойдя к нему, остановился, как будто задумался: переходить или нет. Не перешел,– может быть, вспомнил, что час его еще не наступил.
25 июня – полдень; полдень лета и суток.
Лениво дышит полдень мглистый,Лениво катится река,И в тверди пламенной и чистойЛениво тают облака.И всю природу, как туман,Дремота жаркая объемлет.[761]Парит на песчаных отмелях Немана; пахнет теплою водою, рыбою, теплою земляникой и смолистыми стружками из соснового бора. Душно; в зное зреет гроза.
Посреди Немана, против городка Тильзита, остановился на якоре плот. На плоту – деревянный домик, с двумя на фронтоне, в венке из свежей зелени, сплетенными буквами – N и А: «Наполеон» и «Александр». Лодка Наполеона отчалила от левого берега; лодка Александра – от правого. Съехались: два императора вышли на плот и, в виду обеих армий, под бесконечное русское «Ура!» и французское «Виват император!» обнимаются как братья: обнимается Восток и Запад, Европа и Азия. Полдень лета, полдень суток – Наполеонова солнца полдень. Солнце в зените соединяет обе гемисферы небес. Восток и Запад.
– Государь, я ненавижу англичан так же, как вы,– говорит Александр.
– Если так,– мир заключен,– отвечает Наполеон.
«Никогда ни против кого я не был так предубежден; но после сорокаминутной беседы все мои предубеждения рассеялись, как сон». [762] – «Никогда никого я так не любил»,– вспоминает Александр. [763]
Стараются соблазнить друг друга. Наполеон называет Александра «обольстителем». [764] Видит его, впрочем, насквозь, или думает, что видит: «Настоящий византиец; тонок, ловок, лжив; он далеко пойдет». [765]
«Льстите его тщеславию»,– советует Александр друзьям своим, пруссакам.
8 июля 1807 года подписан Тильзитский мир. «Дело Тильзита решит судьбу мира»,– говорит Наполеон. [766] Вся Европа от Петербурга до Неаполя обращена против Англии; суша опрокинута на море. Исполинская химера почти исполнилась.
Солнце в зените; высшая точка достигнута, и начинается падение.
«Близким наблюдателям видимо было падение Наполеона уже с 1805 года»,– говорит Стендаль. [767] Это кажется невероятным: 1805 – 1807, Аустерлиц – Тильзит полдень Наполеонова солнца. Но так и должно быть: солнце с полдня начинает падать к западу.
«Несчастный. Я тебя жалею: ты будешь завистью себе подобных и самым жалким из них». Это он знает – помнит всегда; но теперь, на вершине могущества,– яснее, чем когда-либо. Все получил, всего достиг – и вдруг заскучал, не захотел ничего. Власть, величие, слава, могущество – все, что людям кажется самым желанным, вдруг сделалось странно-пустым и ненужным. Захотелось чего-то другого; он сам не знает чего и до конца не узнает. Даже на Св. Елене не понял бы и не поверил, если бы ему сказали, что он, уже после Тильзита, в полдне своем, хотел ночи, хотел быть жертвою – самого себя растерзать, как Самсон растерзал Фимнафского льва.
«Гении суть метеоры, которые должны сгорать, чтобы освещать свой век». Сгорать, умирать – быть жертвою. «Из ядущего вышло ядомое, и из крепкого вышло сладкое»,– вот о чем золотые пчелы жужжат в императорском пурпуре.
Истинная, жертвенная душа Наполеона – незримая полдневная звезда.
Душа хотела б быть звездой,—Но не тогда, как с неба полуночиСии светила, как живые очи,Глядят на сонный мир земной,—Но днем, когда сокрытые как дымомПалящих солнечных лучей,Они, как божества, горят светлейВ эфире чистом и незримом.[768]Солнце Наполеона, достигнув высшей точки зенита, падает к западу, и в полдне – вечер.
Вечер
I. Поединок с Англией. 1808
«Англия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг» – этот простой и великий, великого народа достойный, боевой сигнал поднят был на мачту фрегата «Victory» адмиралом Нельсоном перед началом Трафальгарского боя, в Испанских водах, у Кадикса, 21 октября 1805 года, на следующий день после Ульмской капитуляции – начала всемирных побед Наполеона. [769] Нельсон «исполнил свой долг» – пал в бою и, умирая, имел счастье видеть победу: франко-испанский флот истреблен был английским, и этой победой утверждено окончательно, перед лицом самого грозного из всех врагов Англии, Наполеона, ее мировое владычество.
«Несколько французских кораблей потоплено бурей, после неосторожно принятого боя»,– скажет Наполеон о Трафальгаре, делая веселое лицо при печальной игре, но никого не обманет: флот уничтожен, и тщетны все победы на суше – Маренго, Ульм, Аустерлиц, Иена, Фридланд. Так же как некогда в Египте, Абукире, теперь Трафальгаром, в Европе, он пойман, как мышь в мышеловке. Что пользы, если он пройдет и победит всю Европу и Азию до Индии? Суша без моря для него могила заживо или вечная тюрьма – «Св. Елена, маленький остров».
Континентальная блокада, объявленная Берлинским декретом 21 ноября 1806 года,– ответ на Трафальгар. Все европейские гавани закрываются для английского флота; все английские суда захватываются; все товары конфискуются, как военная добыча, и сами великобританские подданные арестуются, как военнопленные; прекращаются даже почтовые сношения с Англией. Задушить ее перепроизводством товаров, не находящих сбыта на внешних рынках, как «апоплексическим ударом от полнокровья», – такова цель блокады. «Надо, чтобы эти враги всех наций оказались вне закона»,– говорит «Монитор». «Это борьба на жизнь и смерть». [770]
Возможен ли был успех блокады? Это решить не так легко, как тогда казалось и теперь кажется многим.
Если бы, говорят, блокада удалась, то задушена была бы не Англия, а Европа, за исполинской Китайской стеной от Архангельска до Константинополя. Чтобы осуществить этот чудовищный план, Наполеон обрекал себя на необходимость завоевывать или аннексировать все европейские страны, на их насильственные, как бы разбойничьи захваты: так захвачены Португалия, Испания, Голландия, Церковная область; он обрекал себя, наконец, на разрыв с Россией, главную причину гибели своей. И все это напрасно, потому что исход для английских товаров мог быть и вне Европы, в колониях. [771]
«Нелепо было объявлять Англии блокаду, когда английский флот блокировал все французские гавани»,– говорит современник. – «Этим безрассудным декретом Наполеон больше всего вредил самому себе: меньшую ненависть возбудило бы против него низвержение двадцати королей… Блокада могла бы удаться лишь в том невозможном случае, если бы все европейские державы соблюдали ее добросовестно; но одна открытая гавань уничтожала ее всю». [772] Щели в этой непроницаемой закупорке всего материка открывало само французское правительство, выдавая «пропуски», licences, для необходимых ему товаров. [773]
«Это было безумье, потому что вредило всем». [774] Чтобы убить Англию, Европа должна была убить себя: вся она покрывалась блокадой, как стеклянным колпаком, из-под которого выкачан воздух.
Все эти возражения указывают только на трудности и опасности блокады; но опасность и трудность не есть невозможность, для Наполеона особенно. «Невозможное есть только пугало робких, убежище трусов». [775]
Надо помнить, что стратегический план его в поединке с Англией был исполнен только в своей небольшой части; остальная же, главная, – овладение бассейном Средиземного моря, как операционною базою против Англии, – осталась неисполненной, не по его вине. Если бы весь план удался, то всю Европу осенил бы Наполеонов орел своими крыльями: левое – на Гибралтаре, на Босфоре – правое. «Все европейские народы двинулись бы, как отдельные корпуса одной великой армии, для последнего приступа на Англию». [776] А за Европой – Азия; вся земная суша опрокинулась бы на море.
Кажется, часть плана сообщил он Александру, еще в медовый месяц Тильзита. О чем они шептались тогда, как влюбленные, дает понять письмо Наполеона от 2 февраля 1808 года.
«Армия в 50 000 штыков, русская, французская и, может быть, отчасти австрийская, направившись через Константинополь в Азию и еще не дойдя до Ефрата, заставила бы Англию дрожать и пасть на колени перед континентом. Я – в Далматии, ваше величество – на Дунае; через месяц армия наша могла бы быть на Босфоре. Удар отозвался бы в Индии, и Англия была бы покорена… Мир сейчас поставлен нашей тесной дружбой в положение небывалое… Мы оба предпочли бы жить в мире и покое, среди наших обширных владений, животворя их и благодетельствуя… Но этого не хотят враги мира (англичане). Мы должны стремиться, вопреки себе, к величью большему. Мудрость и политика требуют, чтобы мы делали то, что нам повелевает судьба, и шли туда, куда ведет нас неизбежный ход событий. Только тогда все эти миллионы пигмеев, не желающих видеть, что меры настоящих событий должно искать не в газетах прошлого века, а во всемирной истории, уступят нам и пойдут, куда мы им прикажем… Я открываю здесь вашему величеству всю мою душу. Дело Тильзита решить судьбы мира». [777]
Нет, «всей души» он не открывает и здесь; если бы открыл ее, то, может быть, Александр отшатнулся бы от него в ужасе.
Вместе с походом на Индию он замышляет и поход на Египет, чтобы все три материка – Европу, Азию, Африку – поднять на Англию. «В то же время, перед французскими портами в Северном море и в Атлантике, появятся флоты и флотилии, производя ряд демонстраций; зашевелится Ирландия, возбуждаемая французскими агентами; и легкие крейсера, проникая во все моря, будут распространять террор во всех неприятельских водах. Англия, ошеломленная всеми этими ударами, не умея отвечать на них, истощаясь в бесплодных усилиях, зашатается, объятая ужасом, среди этого «мирового вихря, tourbillon du monde», обессиленная, перестанет противиться судьбам, обновленной Франции, признает ее победительницей, и тогда, наконец, выйдет из этого огромного потрясения окончательный мир». [778]
«Мировой вихорь» есть мировая революция, которую совершает «Робеспьер на коне» Наполеон, а «окончательный мир» есть мир всего мира – царство Божие, adveniat regnum tuum, по Евангелию, или «земной рай», «золотой век», redeunt Saturnia régna, по мессианскому пророчеству Виргилия.
«Император сошел с ума, окончательно сошел с ума. Все мы с ним полетим к черту, и все это кончится ужасной катастрофой!» – говорит морской министр Декрэ. [779] Может быть, нечто подобное испытывал и Александр, читая письмо Наполеона и прибавляя к этому европейскому, политическому ужасу ужас русский, мистический: «Наполеон – Антихрист».
«Жажда всемирного владычества заложена в природе его; можно ее видоизменить, задержать, но уничтожить нельзя, – говорит Меттерних. – Мнение мое о тайных замыслах Наполеона никогда не изменилось: чудовищный план его всегда был и есть порабощение всего континента под властью одного». [780]
Так ли это? Действительно ли Наполеон «сошел с ума»? Во всяком случае, не больше, чем Революция и вся доныне ею живущая европейская цивилизация – застывшая лава, потухший вулкан Революции. От нее-то он и получил в наследство поединок Франции с Англией, из-за мирового владычества, и оружие для поединка – континентальную блокаду. Мысль о ней принята, еще в 1795 году Комитетом Общественного Спасения. [781]
Наполеон хорошо понимает, с кем борется. Первую рану нанес ему, при осаде Тулона, английский штык, и последнюю – Ватерлоо, Св. Елену – нанесет тоже Англия. Но это не мешает ему признавать силу и величие врага. «Англичане – люди лучшего закала, чем французы… Если бы у меня была английская армия, я прошел бы и победил мир… Будь я избранник не французов, а англичан, я мог бы проиграть, в 1815 году, десять Ватерлоо, не потеряв ни одного голоса в палате и ни одного солдата в армии, и кончил бы тем, что выиграл бы партию». [782]




