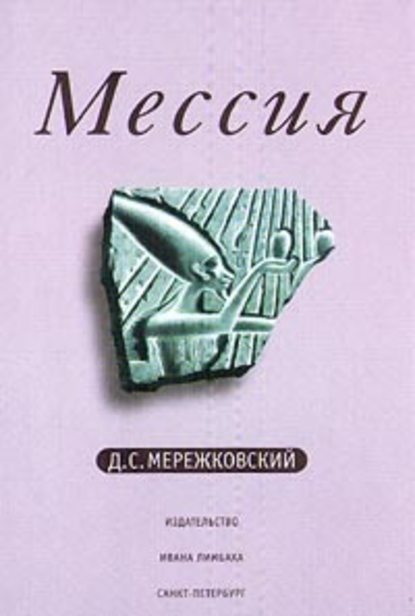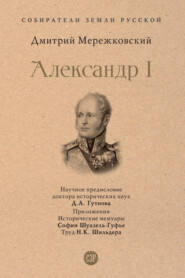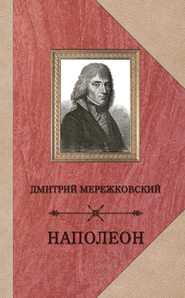По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мессия
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пять дней до праздника Дио провела в Тутиной усадьбе, на Мерировой улице, близ Атонова храма, готовясь к пляске. Днем не выходила из дому, ото всех пряталась, а ночью подымалась на плоскую крышу храма, где должна была плясать. Здесь училась сама и учила других.
Поздно вечером, накануне праздника, она сидела одна в только что отделанной палате Тутина летнего дома; в зимнем – жил он сам со своей супругой, царскою дочерью Анкзембатоною – Анки. Из соседней половины, еще недостроенной, где днем работали каменщики, плотники, маляры и штукатуры, пахло свежею известью и краскою. Тем же запахом нового дома, казалось ей, пахло по всему городу.
Красные, с зелеными венцами пальмовых листьев, столпы поддерживали небесно-голубого цвета потолок. Нежная роспись шла по белой стене: водяные тонкие, как волосы, травы и порхавшие над ними желтые бабочки.
В забранные каменной решеткой узкие и длинные окна-щели под самым потолком веяла свежесть зимнего вечера. Сидя на низком ложе, кирпичном помосте, устланном коврами и обложенном подушками, Дио куталась в критскую шубу, волчий мех, и грелась у очага, глиняного блюда с жаром углей.
«Завтра увижу его», – думала со страхом. В первый же день по приезде начала бояться; чем дальше, тем больше; и вот, в эту последнюю ночь перед свиданьем, напал на нее такой страх, что, казалось, бежала бы, если бы дала себе волю. В жар и холод кидала ее мысль о том, как завтра будет плясать перед царем. «Руки-ноги отнимутся; споткнусь, растянусь, осрамлю бедного Туту!» – смеялась она, как будто нарочно растравляла смехом страх.
В глубине палаты две лампады теплились в двух впадинах стены, часовенках, с плоскими, на алебастровых плитах, изваяньями, налево – царя, а направо – царицы. Между ними, в простенке, бирюзово-голубые, по золотисто-желтому полю, столбцы иероглифов славили бога Атона.
Дио встала, подошла к левой впадине и заглянула внутрь, на изваянье царя. Стоя у жертвенника, подымал он два круглых жертвенных хлебца, по одному – на каждой ладони, к лучезарному кругу Солнца. Высочайшая, острая, как веретено, царская шапка-тиара казалась слишком тяжелою для маленькой детской головки на тонкой, как стебель цветка, гнущейся шее. Детское личико было неправильно: слишком вперед выступающий рот, слишком назад откинутый лоб. Прелесть обнаженного тела напоминала только что расцветший и уже от зноя никнущий цветок:
Ты – цветок, чьи корни из земли исторгнуты;
Ты – росток, текучей водой не взлелеянный! —
вспомнила Дио плач о боге Таммузе умершем.
Шейка, плечики, ручки, икры, щиколки ног – узкие, тонкие, как у десятилетнего мальчика, а бедра – слишком широкие, точно женские; слишком полная грудь, с почти женским сосцом: ни он, ни она – он и она вместе, – чудо божественной прелести.
На горе Диктейской, на острове Крите, слышала Дио древнее сказанье: Муж и Жена были вначале одно тело с двумя лицами; но рассек Господь тело их и каждому дал хребет: «Так режут волосом яйца, когда солят их впрок», – прибавляла, странно и жутко смеясь, старая мать Акаккала, пророчица, шептавшая на ухо Дио это сказанье.
«Режущий волос по телу его, должно быть, прошел не совсем», – думала она, глядя на изваянье царя, и вспомнила пророчество: «Царство божье наступит тогда, когда два будут одно, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского».
Стала на колени и протянула руки к чуду божественной прелести.
– Брат мой, сестра моя, месяц двурогий, секира двуострая, любимый, любимая! – шептала молитвенным шепотом.
Вдруг ветер пахнул из окна; пламя лампады всколыхнулось; облик изваянья померк, и засквозило сквозь чудо чудовище – ни старик, ни дитя, ни мужчина, ни женщина; скопец-скопчиха, дряхлый выкидыш, Гэматонское страшилище.
«Ступай же к Нему, соблазнителю, сыну погибели, дьяволу!» – прозвучал над нею голос Птамоза, и она закрыла лицо руками от ужаса.
В то же мгновенье почувствовала, что кто-то стоит за нею; обернулась и увидела незнакомую девочку.
Ткань, прозрачная, как льющаяся вода, обливала струйчатыми складками янтарно-смуглое тело. Верхняя одежда распахнулась спереди, и сквозь нижнюю – виднелись детские, под темною ямкою пупа, складочки кожи. На голове был огромный, глянцевито-черный парик из туго заплетенных и снизу, ровно, как ножницами, срезанных косичек. К темени прикреплена была благовонная шишка – опрокинутая вверх дном тальковая чашечка, наполненная мастью кэми из семи благовоний – «царским помазаньем». Медленно тая от теплоты тела, стекала она душистой росой на волосы, лицо и одежду. Длинный стебель розового лотоса продет был сквозь отверстие чашечки так, что полураскрывшийся цветок его, со сладостно-анисовым запахом, свешивался на лоб.
Девочке было лет двенадцать. Детское личико прелестно, хотя неправильно: слишком вперед выступающий рот, слишком назад откинутый лоб; чуть-чуть косящий взгляд огромных, с удлиненным разрезом, глаз был тягостен: такой взгляд бывает у людей, страдающих падучей. То ребенок, то женщина; жуткая прелесть в этих двусмысленных сумерках детского-женского. Вся полураскрыта, как тот свесившийся на лоб ее, водяною свежестью дышащий розовый лотос, некхэб; на ночь закрывает он чашу свою, сокращает стебель и уходит под воду, а утром опять выходит, раскрывается, и вылетает из него златокрылый Жук, новорожденный бог Солнца, Гор.
Девочка появилась так внезапно, подобно призраку, что Дио смотрела на нее почти с испугом. Долго обе молчали.
– Дио? – спросила, наконец, гостья.
– Да. А ты кто?
Она ничего не ответила, только подняла левую бровь, дернула правым плечиком и опять спросила:
– Что ты тут делала? Молилась?
– Нет, так, просто… смотрела на изваянье.
– А зачем же стояла на коленях?
Дио покраснела, как будто застыдилась. Девочка опять подняла бровь и дернула плечиком.
– Не хочешь сказать? Ну, не надо.
Подошла к ложу и взяла с него газелью шкуру, которую скинула давеча, войдя в палату.
– Холодно у тебя тут, сыро. Жара в очаге не умеешь держать, – сказала, кутаясь. – Что ж, так и будем молчать? Мне с тобой говорить надо.
Села на ложе по-египетски, охватив руками колени и положив на них подбородок. Дио села рядом с нею.
– Все еще не знаешь, кто я? – спросила девочка, уставившись на нее своим тяжелым взглядом.
– Не знаю.
– Его жена.
– Чья?
– Да ты что, нарочно, что ли?
– Царевна? – вдруг догадалась Дио.
– Слава Богу, наконец-то! – проговорила гостья. – Что ж ты сидишь, глазами хлопаешь?
– А что?
– Как что? Царская дочь, кровь Солнца, а ты и головой не кивнешь!
Дио улыбнулась и тут же, на ложе, стала перед ней на колени, как взрослые стоят перед детьми, когда их ласкают.
– Радуйся, царевна Анкзембатона, гостья моя дорогая, желанная! – проговорила от всего сердца и хотела поцеловать у нее ручку, но та ее быстро отдернула.
– Ну вот, теперь лезет к руке! Разве так царям кланяются?
– А как же?
– В ноги, в ноги! Ну да ладно, мне твоих поклонов не нужно, садись… Нет, стой, погоди!
Вдруг тоже стала перед ней на колени.
– Ну-ка, повернись к свету, вот так…
Дио повернулась лицом к стоявшей на полу, рядом с ложем, лампаде, цветочной чаше папируса из голубого стекла, на высоком алебастровом стебле. Анки приблизила лицо к лицу ее и, деловито наморщив лоб, начала ее разглядывать молча, пристально.
– Да, хороша, очень, – прошептала наконец, как будто про себя. – Румяна у тебя какие?
– Я не румянюсь.
Поздно вечером, накануне праздника, она сидела одна в только что отделанной палате Тутина летнего дома; в зимнем – жил он сам со своей супругой, царскою дочерью Анкзембатоною – Анки. Из соседней половины, еще недостроенной, где днем работали каменщики, плотники, маляры и штукатуры, пахло свежею известью и краскою. Тем же запахом нового дома, казалось ей, пахло по всему городу.
Красные, с зелеными венцами пальмовых листьев, столпы поддерживали небесно-голубого цвета потолок. Нежная роспись шла по белой стене: водяные тонкие, как волосы, травы и порхавшие над ними желтые бабочки.
В забранные каменной решеткой узкие и длинные окна-щели под самым потолком веяла свежесть зимнего вечера. Сидя на низком ложе, кирпичном помосте, устланном коврами и обложенном подушками, Дио куталась в критскую шубу, волчий мех, и грелась у очага, глиняного блюда с жаром углей.
«Завтра увижу его», – думала со страхом. В первый же день по приезде начала бояться; чем дальше, тем больше; и вот, в эту последнюю ночь перед свиданьем, напал на нее такой страх, что, казалось, бежала бы, если бы дала себе волю. В жар и холод кидала ее мысль о том, как завтра будет плясать перед царем. «Руки-ноги отнимутся; споткнусь, растянусь, осрамлю бедного Туту!» – смеялась она, как будто нарочно растравляла смехом страх.
В глубине палаты две лампады теплились в двух впадинах стены, часовенках, с плоскими, на алебастровых плитах, изваяньями, налево – царя, а направо – царицы. Между ними, в простенке, бирюзово-голубые, по золотисто-желтому полю, столбцы иероглифов славили бога Атона.
Дио встала, подошла к левой впадине и заглянула внутрь, на изваянье царя. Стоя у жертвенника, подымал он два круглых жертвенных хлебца, по одному – на каждой ладони, к лучезарному кругу Солнца. Высочайшая, острая, как веретено, царская шапка-тиара казалась слишком тяжелою для маленькой детской головки на тонкой, как стебель цветка, гнущейся шее. Детское личико было неправильно: слишком вперед выступающий рот, слишком назад откинутый лоб. Прелесть обнаженного тела напоминала только что расцветший и уже от зноя никнущий цветок:
Ты – цветок, чьи корни из земли исторгнуты;
Ты – росток, текучей водой не взлелеянный! —
вспомнила Дио плач о боге Таммузе умершем.
Шейка, плечики, ручки, икры, щиколки ног – узкие, тонкие, как у десятилетнего мальчика, а бедра – слишком широкие, точно женские; слишком полная грудь, с почти женским сосцом: ни он, ни она – он и она вместе, – чудо божественной прелести.
На горе Диктейской, на острове Крите, слышала Дио древнее сказанье: Муж и Жена были вначале одно тело с двумя лицами; но рассек Господь тело их и каждому дал хребет: «Так режут волосом яйца, когда солят их впрок», – прибавляла, странно и жутко смеясь, старая мать Акаккала, пророчица, шептавшая на ухо Дио это сказанье.
«Режущий волос по телу его, должно быть, прошел не совсем», – думала она, глядя на изваянье царя, и вспомнила пророчество: «Царство божье наступит тогда, когда два будут одно, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского».
Стала на колени и протянула руки к чуду божественной прелести.
– Брат мой, сестра моя, месяц двурогий, секира двуострая, любимый, любимая! – шептала молитвенным шепотом.
Вдруг ветер пахнул из окна; пламя лампады всколыхнулось; облик изваянья померк, и засквозило сквозь чудо чудовище – ни старик, ни дитя, ни мужчина, ни женщина; скопец-скопчиха, дряхлый выкидыш, Гэматонское страшилище.
«Ступай же к Нему, соблазнителю, сыну погибели, дьяволу!» – прозвучал над нею голос Птамоза, и она закрыла лицо руками от ужаса.
В то же мгновенье почувствовала, что кто-то стоит за нею; обернулась и увидела незнакомую девочку.
Ткань, прозрачная, как льющаяся вода, обливала струйчатыми складками янтарно-смуглое тело. Верхняя одежда распахнулась спереди, и сквозь нижнюю – виднелись детские, под темною ямкою пупа, складочки кожи. На голове был огромный, глянцевито-черный парик из туго заплетенных и снизу, ровно, как ножницами, срезанных косичек. К темени прикреплена была благовонная шишка – опрокинутая вверх дном тальковая чашечка, наполненная мастью кэми из семи благовоний – «царским помазаньем». Медленно тая от теплоты тела, стекала она душистой росой на волосы, лицо и одежду. Длинный стебель розового лотоса продет был сквозь отверстие чашечки так, что полураскрывшийся цветок его, со сладостно-анисовым запахом, свешивался на лоб.
Девочке было лет двенадцать. Детское личико прелестно, хотя неправильно: слишком вперед выступающий рот, слишком назад откинутый лоб; чуть-чуть косящий взгляд огромных, с удлиненным разрезом, глаз был тягостен: такой взгляд бывает у людей, страдающих падучей. То ребенок, то женщина; жуткая прелесть в этих двусмысленных сумерках детского-женского. Вся полураскрыта, как тот свесившийся на лоб ее, водяною свежестью дышащий розовый лотос, некхэб; на ночь закрывает он чашу свою, сокращает стебель и уходит под воду, а утром опять выходит, раскрывается, и вылетает из него златокрылый Жук, новорожденный бог Солнца, Гор.
Девочка появилась так внезапно, подобно призраку, что Дио смотрела на нее почти с испугом. Долго обе молчали.
– Дио? – спросила, наконец, гостья.
– Да. А ты кто?
Она ничего не ответила, только подняла левую бровь, дернула правым плечиком и опять спросила:
– Что ты тут делала? Молилась?
– Нет, так, просто… смотрела на изваянье.
– А зачем же стояла на коленях?
Дио покраснела, как будто застыдилась. Девочка опять подняла бровь и дернула плечиком.
– Не хочешь сказать? Ну, не надо.
Подошла к ложу и взяла с него газелью шкуру, которую скинула давеча, войдя в палату.
– Холодно у тебя тут, сыро. Жара в очаге не умеешь держать, – сказала, кутаясь. – Что ж, так и будем молчать? Мне с тобой говорить надо.
Села на ложе по-египетски, охватив руками колени и положив на них подбородок. Дио села рядом с нею.
– Все еще не знаешь, кто я? – спросила девочка, уставившись на нее своим тяжелым взглядом.
– Не знаю.
– Его жена.
– Чья?
– Да ты что, нарочно, что ли?
– Царевна? – вдруг догадалась Дио.
– Слава Богу, наконец-то! – проговорила гостья. – Что ж ты сидишь, глазами хлопаешь?
– А что?
– Как что? Царская дочь, кровь Солнца, а ты и головой не кивнешь!
Дио улыбнулась и тут же, на ложе, стала перед ней на колени, как взрослые стоят перед детьми, когда их ласкают.
– Радуйся, царевна Анкзембатона, гостья моя дорогая, желанная! – проговорила от всего сердца и хотела поцеловать у нее ручку, но та ее быстро отдернула.
– Ну вот, теперь лезет к руке! Разве так царям кланяются?
– А как же?
– В ноги, в ноги! Ну да ладно, мне твоих поклонов не нужно, садись… Нет, стой, погоди!
Вдруг тоже стала перед ней на колени.
– Ну-ка, повернись к свету, вот так…
Дио повернулась лицом к стоявшей на полу, рядом с ложем, лампаде, цветочной чаше папируса из голубого стекла, на высоком алебастровом стебле. Анки приблизила лицо к лицу ее и, деловито наморщив лоб, начала ее разглядывать молча, пристально.
– Да, хороша, очень, – прошептала наконец, как будто про себя. – Румяна у тебя какие?
– Я не румянюсь.