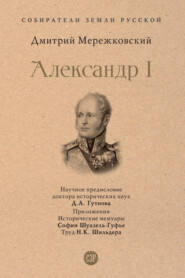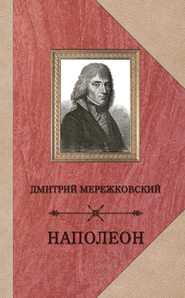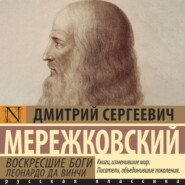По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Франциск Ассизский
Жанр
Год написания книги
1938
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
LXVI
«Некоторые ученые братья, на великом собрании в Портионкуле, так называемом „Капитуле Шатров“, где собралось пять тысяч братьев, – подойдя к епископу Остийскому (кардиналу Уголино, наместнику Братства), сказали ему так: «Ваше преподобие, убедите брата Франциска послушаться совета умных и ученых братьев… чтобы он руководствовался уставом св. Бенедикта, св. Августина и св. Бернарда, которые учат братьев жить так-то и так-то. Но, только что кардинал передал эти слова Блаженному, прибавив к ним от себя увещание, – тот молча взял его за руку, повел к собранию всего Капитула (пяти тысяч братьев) и, весь пламенея Духом Святым, воскликнул:
– Братья, братья мои! сам Господь открыл пути свои мне и тем, кто идет за мной… Не говорите же мне ни о каких уставах, – ни св. Бенедикта, ни св. Августина, ни св. Бернарда, и ни о каком пути, кроме этого, открытого мне самим Господом, ибо хочет от меня Господь одного, – чтобы я был величайшим в мире безумцем, и нет мне иного пути, кроме этого… Вас же всех, ученых и умных, да посрамит и покарает Господь![175 - Specul. Perfect. IV. 28.]
«Нет иного пути, кроме открытого мне самим Господом», – это значит: «Я и Христос; между мной и Христом – никого и ничего». Сызнова все начинает Франциск, как будто никогда никакой Церкви и не было: «Только одно Братство твое, Франциск, и осталось у Меня во всем мире… и с ним последний свет потухнет». Вот отчего все пять тысяч братьев Капитула, как вспоминает легенда, были «в великом страхе», и кардинал Уголино тоже; это страх всей Римской, бывшей церкви перед будущей, Вселенской; вот отчего Франциск «весь пламенеет Духом Святым». «Бывшая Церковь – Сына; будущая Церковь – Духа», – скажут некогда ученики Франциска, полагая, что сам он – уже не в бывшей, Римской, а в будущей, Вселенской Церкви, и, может быть, Иоахим согласился бы с ними. Но так ли это? Где сам Франциск, – во Втором или в Третьем Завете, в Церкви Сына или в Церкви Духа? Чтобы ответить на этот вопрос, надо измерить степень наибольшего приближения св. Франциска к откровению Духа, в том религиозном опыте его, действительно небывалом и единственном, который можно бы назвать «Благословением твари».
LXVII
Если только в Третьем Завете, по ту сторону Евангелия, открывается вся полнота этого нового религиозного опыта, то первая исходная точка его дана уже и во Втором Завете, в Евангелии:
взгляните на птиц небесных: не сеют они и жнут, ни собирают в житницы… Посмотрите на полевые лилии, как они растут; не трудятся, не прядут… Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?»
Это значит: «научитесь у животных и растений нищете, наготе, свободе; не жить, а быть».
С этой-то первой точки и начинает Франциск «Благословение твари».
«Сестры мои, Птицы, хвалите Творца и любите Его… Вы не сеете, не жнете, но Бог питает вас», – так говорил Блаженный, и птицы радовались, слушая его; вытягивали шеи, били крыльями и открывали клювы, глядя на него. Он же ходил между ними, касаясь голов их краями одежды… А потом осенил их крестным знамением, и они улетели… И с этого дня начал он проповедывать всей твари… и, с каждым днем, убеждался все больше в покорности ее человеку». – «И жалостью к ней… истаивало сердце Блаженного».[176 - Celano. V. S. I. 21.]
Сам Франциск ясно не увидит никогда, умом не поймет, но сердцем, может быть, уже чувствует, что все «Благословение твари» для него начинается с птиц, потому что в чуде полета, победе над законом тяготения, рабством всех рабств, – птицы являют людям «вещее знамение», «символ», significatione, как скажет он о «Брате Солнце», – символ Третьего, по Иоахиму, Царства – Свободы.
Кажется, это и легенда смутно чувствует. «Сердцем проникал он в тайны всех тварей, как будто, уже освободившись от плоти… жил в свободе сынов Божиих».[177 - Celano. V. P. I. 29.] Здесь уже вторая точка этого нового религиозного опыта, – в движении Духа от Иисуса к Павлу:
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается доныне… в надежде… что освобождена будет от рабства… в свободу детей Божиих… Мы еще не знаем, о чем молится, как должно; но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8, 19–26), —
«за нас», – не только за людей, но и за «всю тварь».
«Будет Бог все во всем» (I Кор. 15, 28), – это для него, Франциска, как будто уже исполнилось, – уже сияло в нем через край переливающейся благостью.[178 - Celano. V. S. II. 124.]
LXVIII
Сложенная им незадолго до смерти «Песнь тварей», Il Cantico delle creature, – только жалкий лепет по сравнению с тем, что он чувствует, – хочет и не может сказать об этом восстановленном в сердце его, вечном мире между Человеком и Тварью; лучше всех слов выражается это в безмолвных делах Блаженного.
«Чудно было видеть, что и вся неразумная тварь понимала, как он любит ее и жалеет».[179 - Celano. V. P. I. 21.] – «Если слушалась его вся тварь, то это неудивительно, потому что все мы, бывшие с ним, видели, как он не только любит ее… но и почитает… и, находясь в восхищении (экстазе, raptus), говорит с нею, как с разумною».[180 - Celano. V. S. II. 126.]
Пойманный зайчик прячется на груди его, как в самом верном убежище, и Франциск «ласкает его с материнскою нежностью»; (потом отпускает на волю, но, вместо того чтоб убежать, зайчик опять вскакивает к нему на руки и прячется у него на груди; и так несколько раз, пока наконец Франциск не велит отнести его в лес, чтобы там отпустить.[181 - Celano. V. P. I. 21.]
Так же подаренная ему рыбаками на Риетском озере водяная птичка не улетает от него, угревшись в сложенных ладонях, как в родном гнезде. «И, подняв к небу глаза, долго молился Блаженный, в восхищении… Когда же наконец, придя в себя, велел птичке вернуться на волю и осенил ее крестным знамением, та, встрепенувшись, улетела радостно».[182 - Celano. V. S. II. 126.]
Сидя на фиговом дереве, около самой хижины-кельи Святого в Портионкуле, кузнечик сладко пел. «Брат мой, Кузнечик, поди сюда!» – сказал однажды Блаженный, протянув к нему руку, и тот, спрыгнув тотчас же с дерева, сел к нему на ладонь. «Пой, брат мой, Кузнечик, – хвали Творца!» – велит ему Франциск, и он запел, и Блаженный вместе с ним.[183 - Celano. V. S. II. 130.]
В братстве нашем с кузнечиком мы усомнились, но ведь и Каин усомнился в братстве с Авелем.
«Первый ковач железа», машиностроитель, градостроитель, всей нашей гражданственности, цивилизации, праотец, Каин, убил не только брата своего, Авеля, но и все братство в мире. Каиновым железом отделен человек от человека и от всей твари.
Большее, может быть, безумие сказать о кузнечике: «машина», чем сказать: «брат». Если и он рождается, любит, поет и умирает, так же как мы, то и он – сын той же Матери-Земли, – наш брат.
Мертвый Авель, брат Каина, и живой кузнечик, брат св. Франциска, – два одинаково недоказуемых мифа или мистерии, две одинаковых возможности, и выбор между ними свободен: или «Природа вещей – вещества», Natura rerum, строительница мертвых машин, или Природа – Мать живых существ. Светится сквозь нее одно из двух возможных лиц, и выбор между ними опять-таки свободен: или стальное лицо Машины, или родное лицо Матери – той Любви, о которой Данте сказал:
Любовь, что движет солнце и другие звезды.
L'Amor che move il sol e 1'altre stelle.
Если братоубийца и машиностроитель, Каин, прав; если правы те, для кого вся природа – «механика», то рано или поздно схватит человека за горло и задушит человекообразная машина, Автомат. Вот от чего спасает или могло бы спасти нас дело св. Франциска – между человеком и тварью восстановленный мир.[184 - Farad. XXXIII. 145.]
LXIX
«Ласкам его улыбалась вся тварь… и воли его покорно слушалась», как воли первого человека, Адама, в раю: что это значит, видно по легенде о слепнущем Франциске.
Зная, что его уже от слепоты не исцелит никто, соглашается он, по настоянию братьев, на тогдашнее варварское лечение – прижигание висков раскаленным добела железом. Докрасна еще только накалилось оно, на углях жаровни, когда бежали все, оставив его наедине с двумя последними братьями, Огнем и Врачом. Ближе был Франциску в эту минуту брат Огонь, чем брат Человек.
– Брат мой, Огонь, – сказал Блаженный, осеняя раскаленное добела железо крестным знамением, – брат мой, Огонь, я всегда любил Тебя за то, что ты из всех творений Божьих самое могучее и прекрасное. Будь же милостив ко мне: тихо жги меня, так, чтобы я мог вынести!
Поднял врач ослепительно белую, как солнце, палочку и, когда, вонзив ее острие в зашипевшее тело, провел им от уха до брови, тихо улыбнулся Блаженный, как дитя – от ласки матери. А когда вернулись в келью бежавшие братья, он, с такою же тихой улыбкой, сказал им: «Трусы! чего вы так испугались? я никакой боли не чувствовал». – «Чудо!» – воскликнул никогда ничего подобного не видевший врач.[185 - Celano. V. S. II. 125.]
Что ж это такое, в самом деле? Только ли «вымысел», «легенда», или какая-то за нею чудесная действительность? Две опять и здесь недоказуемых возможности, два «мифа» или религиозных опыта, и выбор между ними свободен. Первая возможность, внешняя: явление естественное, – то, что мы называем «анестезией», «обесчувствлением», – следствие того, что мы называем «самовнушением», «гипнозом», а люди XIII века называли «восхищением», raptus; вторая возможность, внутренняя: нечто большее, чем то, во что верит Франциск, – то, что он знает, чувствует до «исступления», «бесчувствия», – милость брата Огня к брату Человеку, – между Человеком и Тварью восстановленный мир.
LXX
Кажется, лучше всего могли бы понять этот новый религиозный опыт Франциска два великих «символиста», Данте и Гёте.
Все преходящее
Есть только Символ.
Alles Verg?ngliche
Ist nur ein Gleichniss, —
скажет Гёте.
«Символ Твой являет – Тебя знаменует, Всевышний… брат наш, Солнце… в блеске своем лучезарном, di te Altissimo, porta significatione», – скажет Франциск, для внешнего солнца слепнущий, для внутреннего – прозревающий.
Кажется, это понимает и легенда: «по запечатленным во всем творении, следам Возлюбленного восходил он, как по лестнице» – вещих знамений, символов.[186 - Celano. V. S. II. 124.]
«Братьям не позволял наступать на две случайно скрещенных на земле соломинки или сучка», потому что этот маленький крестик был для него знамением – символом великого Креста.[187 - Jorgensen. 444.]
Моя руки, старался не наступать на падавшие капли – слезы «Сестры нашей, Воды». – «С трепетным благоговением наступал иногда на камни, потому что „Христос есть Камень“, по слову Павла (1 Кор. 10, 4). „Не позволял рубить в лесу деревьев до корня“, потому что всякое дерево – символ того, на котором был распят Сын Божий. Сам не любил гасить никакого огня – ни очагов, ни свечей, ни лампад, ни факелов; не любил и того, чтоб их другие гасили при нем, потому что во всяком свете видел символ того Изначального, что „во тьме светит и тьма не объяла Его“.[188 - Specul. Perfect. XII. 6. – Celano. V. S. 124. – Specul. Perfect. XII. 4.]
Так, для Франциска, вся тварь, от Херувима до атома, – одна живая, прозрачная «лестница» Символов; так же как для Данте, весь мир для него – «Божественная Комедия» – «Божественная Игра». Потому-то и называет он себя «игрецом», «скоморохом Божьим», joculator Dei. Чтоб в этом понять его, надо помнить того «скомороха», «канатного плясуна» Парижской Богоматери, который ходит на голове, утешая Матерь Скорбящую и весь Ангельский сонм; надо помнить, что радость и легкость Франциска – «перевернутая», «опрокинутая», не первая, а последняя, после безмерной скорби и тяжести; радость не жизни, а бытия («умри и будь»), – «потерянной и найденной снова души». Чтобы в этом понять его не отвлеченно-созерцательно, а жизненно-действенно, надо помнить всегда, что радость эта подобна той вонзившейся в тело его раскаленной добела врачом железной палочке.
LXXI
Кажется, верная, хотя и очень смутная, память о достигнутой Франциском, при восхождении по этой лестнице символов, высшей ступени уцелела в легенде о подаренном ему ягненке, который всюду неотступно ходит за ним и, войдя однажды в церковь Марии Ангелов, во время обедни, при вознесении Даров, преклоняет колена, с благоговейно-трепетным блеянием.[189 - Gebhart. 115.]
Дело тут, разумеется, не в том, могло ли быть нечто подобное, а в том, что, по этой легенде, идущей, судя по ее глубине, от сердца самого Франциска, участвует свято в святейшем Таинстве, наравне с людьми, животное. От жертвенных, в Иерусалимском храме, заколаемых, агнцев до этого, – в Портионкульской церкви, за которого заклан сам Агнец Божий, Христос, – какое неимоверное движение Духа! Здесь впервые не только человек, но и вся тварь искуплена Голгофскою жертвою. Вот что значит: «совокупно стенает и мучится доныне вся тварь… ожидая… усыновления – искупления, ибо сам Дух ходатайствует воздыханиями неизреченными» – не только за людей, но и за всю тварь.
Здесь уже, в самом деле, новое, в христианстве, небывалое откровение Духа в Сыне; уже не Второй Завет, а Третий, или, точнее, Третий – во Втором.
LXXII
Но эта высшая и к Духу ближайшая, Франциском достигнутая, точка восхождения по лестнице символов, – последняя; вольно, сознательно-зряче никогда им не переступленный и непереступаемый для него порог. Здесь остановится он и дальше не пойдет. Если б он узнал, что вернейшие, ближайшие, хотя и посмертные, ученики введут его в Третий Завет, в Третье Царство Духа, соединив с Иоахимом, то, вероятно, испугался бы этого, не захотел бы об этом и слышать и от вернейших учеников своих отрекся бы.
«Некоторые ученые братья, на великом собрании в Портионкуле, так называемом „Капитуле Шатров“, где собралось пять тысяч братьев, – подойдя к епископу Остийскому (кардиналу Уголино, наместнику Братства), сказали ему так: «Ваше преподобие, убедите брата Франциска послушаться совета умных и ученых братьев… чтобы он руководствовался уставом св. Бенедикта, св. Августина и св. Бернарда, которые учат братьев жить так-то и так-то. Но, только что кардинал передал эти слова Блаженному, прибавив к ним от себя увещание, – тот молча взял его за руку, повел к собранию всего Капитула (пяти тысяч братьев) и, весь пламенея Духом Святым, воскликнул:
– Братья, братья мои! сам Господь открыл пути свои мне и тем, кто идет за мной… Не говорите же мне ни о каких уставах, – ни св. Бенедикта, ни св. Августина, ни св. Бернарда, и ни о каком пути, кроме этого, открытого мне самим Господом, ибо хочет от меня Господь одного, – чтобы я был величайшим в мире безумцем, и нет мне иного пути, кроме этого… Вас же всех, ученых и умных, да посрамит и покарает Господь![175 - Specul. Perfect. IV. 28.]
«Нет иного пути, кроме открытого мне самим Господом», – это значит: «Я и Христос; между мной и Христом – никого и ничего». Сызнова все начинает Франциск, как будто никогда никакой Церкви и не было: «Только одно Братство твое, Франциск, и осталось у Меня во всем мире… и с ним последний свет потухнет». Вот отчего все пять тысяч братьев Капитула, как вспоминает легенда, были «в великом страхе», и кардинал Уголино тоже; это страх всей Римской, бывшей церкви перед будущей, Вселенской; вот отчего Франциск «весь пламенеет Духом Святым». «Бывшая Церковь – Сына; будущая Церковь – Духа», – скажут некогда ученики Франциска, полагая, что сам он – уже не в бывшей, Римской, а в будущей, Вселенской Церкви, и, может быть, Иоахим согласился бы с ними. Но так ли это? Где сам Франциск, – во Втором или в Третьем Завете, в Церкви Сына или в Церкви Духа? Чтобы ответить на этот вопрос, надо измерить степень наибольшего приближения св. Франциска к откровению Духа, в том религиозном опыте его, действительно небывалом и единственном, который можно бы назвать «Благословением твари».
LXVII
Если только в Третьем Завете, по ту сторону Евангелия, открывается вся полнота этого нового религиозного опыта, то первая исходная точка его дана уже и во Втором Завете, в Евангелии:
взгляните на птиц небесных: не сеют они и жнут, ни собирают в житницы… Посмотрите на полевые лилии, как они растут; не трудятся, не прядут… Итак, не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться?»
Это значит: «научитесь у животных и растений нищете, наготе, свободе; не жить, а быть».
С этой-то первой точки и начинает Франциск «Благословение твари».
«Сестры мои, Птицы, хвалите Творца и любите Его… Вы не сеете, не жнете, но Бог питает вас», – так говорил Блаженный, и птицы радовались, слушая его; вытягивали шеи, били крыльями и открывали клювы, глядя на него. Он же ходил между ними, касаясь голов их краями одежды… А потом осенил их крестным знамением, и они улетели… И с этого дня начал он проповедывать всей твари… и, с каждым днем, убеждался все больше в покорности ее человеку». – «И жалостью к ней… истаивало сердце Блаженного».[176 - Celano. V. S. I. 21.]
Сам Франциск ясно не увидит никогда, умом не поймет, но сердцем, может быть, уже чувствует, что все «Благословение твари» для него начинается с птиц, потому что в чуде полета, победе над законом тяготения, рабством всех рабств, – птицы являют людям «вещее знамение», «символ», significatione, как скажет он о «Брате Солнце», – символ Третьего, по Иоахиму, Царства – Свободы.
Кажется, это и легенда смутно чувствует. «Сердцем проникал он в тайны всех тварей, как будто, уже освободившись от плоти… жил в свободе сынов Божиих».[177 - Celano. V. P. I. 29.] Здесь уже вторая точка этого нового религиозного опыта, – в движении Духа от Иисуса к Павлу:
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается доныне… в надежде… что освобождена будет от рабства… в свободу детей Божиих… Мы еще не знаем, о чем молится, как должно; но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными (Рим. 8, 19–26), —
«за нас», – не только за людей, но и за «всю тварь».
«Будет Бог все во всем» (I Кор. 15, 28), – это для него, Франциска, как будто уже исполнилось, – уже сияло в нем через край переливающейся благостью.[178 - Celano. V. S. II. 124.]
LXVIII
Сложенная им незадолго до смерти «Песнь тварей», Il Cantico delle creature, – только жалкий лепет по сравнению с тем, что он чувствует, – хочет и не может сказать об этом восстановленном в сердце его, вечном мире между Человеком и Тварью; лучше всех слов выражается это в безмолвных делах Блаженного.
«Чудно было видеть, что и вся неразумная тварь понимала, как он любит ее и жалеет».[179 - Celano. V. P. I. 21.] – «Если слушалась его вся тварь, то это неудивительно, потому что все мы, бывшие с ним, видели, как он не только любит ее… но и почитает… и, находясь в восхищении (экстазе, raptus), говорит с нею, как с разумною».[180 - Celano. V. S. II. 126.]
Пойманный зайчик прячется на груди его, как в самом верном убежище, и Франциск «ласкает его с материнскою нежностью»; (потом отпускает на волю, но, вместо того чтоб убежать, зайчик опять вскакивает к нему на руки и прячется у него на груди; и так несколько раз, пока наконец Франциск не велит отнести его в лес, чтобы там отпустить.[181 - Celano. V. P. I. 21.]
Так же подаренная ему рыбаками на Риетском озере водяная птичка не улетает от него, угревшись в сложенных ладонях, как в родном гнезде. «И, подняв к небу глаза, долго молился Блаженный, в восхищении… Когда же наконец, придя в себя, велел птичке вернуться на волю и осенил ее крестным знамением, та, встрепенувшись, улетела радостно».[182 - Celano. V. S. II. 126.]
Сидя на фиговом дереве, около самой хижины-кельи Святого в Портионкуле, кузнечик сладко пел. «Брат мой, Кузнечик, поди сюда!» – сказал однажды Блаженный, протянув к нему руку, и тот, спрыгнув тотчас же с дерева, сел к нему на ладонь. «Пой, брат мой, Кузнечик, – хвали Творца!» – велит ему Франциск, и он запел, и Блаженный вместе с ним.[183 - Celano. V. S. II. 130.]
В братстве нашем с кузнечиком мы усомнились, но ведь и Каин усомнился в братстве с Авелем.
«Первый ковач железа», машиностроитель, градостроитель, всей нашей гражданственности, цивилизации, праотец, Каин, убил не только брата своего, Авеля, но и все братство в мире. Каиновым железом отделен человек от человека и от всей твари.
Большее, может быть, безумие сказать о кузнечике: «машина», чем сказать: «брат». Если и он рождается, любит, поет и умирает, так же как мы, то и он – сын той же Матери-Земли, – наш брат.
Мертвый Авель, брат Каина, и живой кузнечик, брат св. Франциска, – два одинаково недоказуемых мифа или мистерии, две одинаковых возможности, и выбор между ними свободен: или «Природа вещей – вещества», Natura rerum, строительница мертвых машин, или Природа – Мать живых существ. Светится сквозь нее одно из двух возможных лиц, и выбор между ними опять-таки свободен: или стальное лицо Машины, или родное лицо Матери – той Любви, о которой Данте сказал:
Любовь, что движет солнце и другие звезды.
L'Amor che move il sol e 1'altre stelle.
Если братоубийца и машиностроитель, Каин, прав; если правы те, для кого вся природа – «механика», то рано или поздно схватит человека за горло и задушит человекообразная машина, Автомат. Вот от чего спасает или могло бы спасти нас дело св. Франциска – между человеком и тварью восстановленный мир.[184 - Farad. XXXIII. 145.]
LXIX
«Ласкам его улыбалась вся тварь… и воли его покорно слушалась», как воли первого человека, Адама, в раю: что это значит, видно по легенде о слепнущем Франциске.
Зная, что его уже от слепоты не исцелит никто, соглашается он, по настоянию братьев, на тогдашнее варварское лечение – прижигание висков раскаленным добела железом. Докрасна еще только накалилось оно, на углях жаровни, когда бежали все, оставив его наедине с двумя последними братьями, Огнем и Врачом. Ближе был Франциску в эту минуту брат Огонь, чем брат Человек.
– Брат мой, Огонь, – сказал Блаженный, осеняя раскаленное добела железо крестным знамением, – брат мой, Огонь, я всегда любил Тебя за то, что ты из всех творений Божьих самое могучее и прекрасное. Будь же милостив ко мне: тихо жги меня, так, чтобы я мог вынести!
Поднял врач ослепительно белую, как солнце, палочку и, когда, вонзив ее острие в зашипевшее тело, провел им от уха до брови, тихо улыбнулся Блаженный, как дитя – от ласки матери. А когда вернулись в келью бежавшие братья, он, с такою же тихой улыбкой, сказал им: «Трусы! чего вы так испугались? я никакой боли не чувствовал». – «Чудо!» – воскликнул никогда ничего подобного не видевший врач.[185 - Celano. V. S. II. 125.]
Что ж это такое, в самом деле? Только ли «вымысел», «легенда», или какая-то за нею чудесная действительность? Две опять и здесь недоказуемых возможности, два «мифа» или религиозных опыта, и выбор между ними свободен. Первая возможность, внешняя: явление естественное, – то, что мы называем «анестезией», «обесчувствлением», – следствие того, что мы называем «самовнушением», «гипнозом», а люди XIII века называли «восхищением», raptus; вторая возможность, внутренняя: нечто большее, чем то, во что верит Франциск, – то, что он знает, чувствует до «исступления», «бесчувствия», – милость брата Огня к брату Человеку, – между Человеком и Тварью восстановленный мир.
LXX
Кажется, лучше всего могли бы понять этот новый религиозный опыт Франциска два великих «символиста», Данте и Гёте.
Все преходящее
Есть только Символ.
Alles Verg?ngliche
Ist nur ein Gleichniss, —
скажет Гёте.
«Символ Твой являет – Тебя знаменует, Всевышний… брат наш, Солнце… в блеске своем лучезарном, di te Altissimo, porta significatione», – скажет Франциск, для внешнего солнца слепнущий, для внутреннего – прозревающий.
Кажется, это понимает и легенда: «по запечатленным во всем творении, следам Возлюбленного восходил он, как по лестнице» – вещих знамений, символов.[186 - Celano. V. S. II. 124.]
«Братьям не позволял наступать на две случайно скрещенных на земле соломинки или сучка», потому что этот маленький крестик был для него знамением – символом великого Креста.[187 - Jorgensen. 444.]
Моя руки, старался не наступать на падавшие капли – слезы «Сестры нашей, Воды». – «С трепетным благоговением наступал иногда на камни, потому что „Христос есть Камень“, по слову Павла (1 Кор. 10, 4). „Не позволял рубить в лесу деревьев до корня“, потому что всякое дерево – символ того, на котором был распят Сын Божий. Сам не любил гасить никакого огня – ни очагов, ни свечей, ни лампад, ни факелов; не любил и того, чтоб их другие гасили при нем, потому что во всяком свете видел символ того Изначального, что „во тьме светит и тьма не объяла Его“.[188 - Specul. Perfect. XII. 6. – Celano. V. S. 124. – Specul. Perfect. XII. 4.]
Так, для Франциска, вся тварь, от Херувима до атома, – одна живая, прозрачная «лестница» Символов; так же как для Данте, весь мир для него – «Божественная Комедия» – «Божественная Игра». Потому-то и называет он себя «игрецом», «скоморохом Божьим», joculator Dei. Чтоб в этом понять его, надо помнить того «скомороха», «канатного плясуна» Парижской Богоматери, который ходит на голове, утешая Матерь Скорбящую и весь Ангельский сонм; надо помнить, что радость и легкость Франциска – «перевернутая», «опрокинутая», не первая, а последняя, после безмерной скорби и тяжести; радость не жизни, а бытия («умри и будь»), – «потерянной и найденной снова души». Чтобы в этом понять его не отвлеченно-созерцательно, а жизненно-действенно, надо помнить всегда, что радость эта подобна той вонзившейся в тело его раскаленной добела врачом железной палочке.
LXXI
Кажется, верная, хотя и очень смутная, память о достигнутой Франциском, при восхождении по этой лестнице символов, высшей ступени уцелела в легенде о подаренном ему ягненке, который всюду неотступно ходит за ним и, войдя однажды в церковь Марии Ангелов, во время обедни, при вознесении Даров, преклоняет колена, с благоговейно-трепетным блеянием.[189 - Gebhart. 115.]
Дело тут, разумеется, не в том, могло ли быть нечто подобное, а в том, что, по этой легенде, идущей, судя по ее глубине, от сердца самого Франциска, участвует свято в святейшем Таинстве, наравне с людьми, животное. От жертвенных, в Иерусалимском храме, заколаемых, агнцев до этого, – в Портионкульской церкви, за которого заклан сам Агнец Божий, Христос, – какое неимоверное движение Духа! Здесь впервые не только человек, но и вся тварь искуплена Голгофскою жертвою. Вот что значит: «совокупно стенает и мучится доныне вся тварь… ожидая… усыновления – искупления, ибо сам Дух ходатайствует воздыханиями неизреченными» – не только за людей, но и за всю тварь.
Здесь уже, в самом деле, новое, в христианстве, небывалое откровение Духа в Сыне; уже не Второй Завет, а Третий, или, точнее, Третий – во Втором.
LXXII
Но эта высшая и к Духу ближайшая, Франциском достигнутая, точка восхождения по лестнице символов, – последняя; вольно, сознательно-зряче никогда им не переступленный и непереступаемый для него порог. Здесь остановится он и дальше не пойдет. Если б он узнал, что вернейшие, ближайшие, хотя и посмертные, ученики введут его в Третий Завет, в Третье Царство Духа, соединив с Иоахимом, то, вероятно, испугался бы этого, не захотел бы об этом и слышать и от вернейших учеников своих отрекся бы.