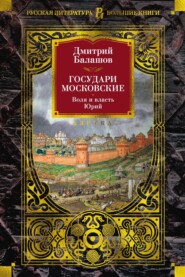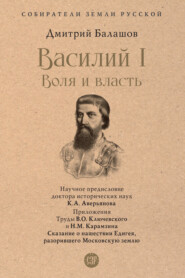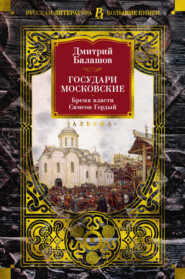По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Государи Московские. Ветер времени. Отречение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«А, будь что будет!» – подумал Станята и, как в воду кидаясь, уцепился за стремя всадника.
– Князь! Великий хан! – закричал он. – Окажи милость! Русичи мы! Гости! Вели свободить дьякона нашего! – Он тут же повторил все по-татарски.
Сулейман (это был он) удивленно поднял бровь. Обернувшись к своим, спросил:
– Что говорит этот грек?
– Не грек я, русич, русич, Руссия! Москов! Золотая Орда! Хана Джанибека подданный!
Сулейман плохо понимал по-гречески, но, когда ему перевели, всмотрелся в Станяту пристальнее, по рубахе и портам признал, что перед ним не грек, а услышав имя хана Джанибека, подумал, прищурился и кивнул головой, примолвив кратко:
– Освободить!
Тотчас освобожденного от веревки растерзанного Ноздрю поставили рядом со Станятой.
– Кто ваш господин? – спросил Сулейман.
– Наш господин великий князь московский, а сам он подданный царя Золотой Орды хана Джанибека! – ответил за обоих Станята.
– И что вас занесло сюда? – насмешливо вопросил Сулейман.
– Иконы купляем, книги церковные! – вновь ответил Станята. – В нашу землю везем!
– И много у вас серебра? – усмехаясь, продолжил Сулейман.
– А почитай все и растратили! – возразил Станята. – Накупили икон, а ныне и домой ехать не на чем!
– Домой, это в Константинополь? – уточнил Сулейман.
– Ага! – Станята неотрывно глядел в голубые беспощадные глаза Урханова сына, чуя нутром, что эдак-то лучше. – Набольший наш, митрополит русский, тамо сейчас, ставиться приехал!
Сулейман раздул ноздри:
– А ежели я прикажу обыскать вас обоих и обнаружу золото? Греки так изолгались, что их приходится нынче поджаривать на огне, чтобы из них закапало наконец золото!
Воины дружно расхохотались шутке своего повелителя, и Станяте стало муторно, а у дьякона так и вовсе повело в глазах.
– Твои воины уже обыскали нас! – ответил Станята.
Сулейман расхохотался, довольный.
– А ты молодец, – примолвил он, – не трусишь! – И, согнав улыбку с лица, выговорил важно: – Передайте вашему большому попу, пусть он скажет самому Кантакузину, что десять тысяч иперперов за Чимпе мне теперь мало! Я хочу получить в придачу всю Фракию! Видел ты это, русич?! – продолжал он с сумасшедшим блеском в глазах. – Стены города пали, греки бегут, а мы наступаем! Ваши боги мертвы! Велик Аллах!
Воины дружно подхватили мусульманский клич. Сулейман натянул повод, отстранился, подумал и примолвил, взмахнувши рукой:
– Дайте этим русичам осла, пусть увозят свои иконы, и мой фирман, чтобы их не раздели дорогою!
Ослов, потерявших хозяев, растерянно бродивших по захваченному городу, было много. Им тут же подвели одного из них.
Получив грамоту, весь переполненный радостью (пока писец, не слезая с седла, готовил фирман, он все показывал турку на пальцах: трое, мол, нас, трое!), Станята, ухватив осла за повод и дьякона под руку, повлек обоих к разрушенному дому, где отец Василий терпеливо и безнадежно сожидал или возвращения спутников, или какого иного последнего конца.
С фирманом за пазухою стало можно жить. Разделив натрое остатнее серебро и завернув в онучи, они начали собирать уцелевшие иконы, укутывая их в любое попадавшее под руку тряпье, и увязывать вервием. Икон и книг набралось неожиданно много, и осел едва не зашатался под тяжкою ношей.
– Не сдюжит! Повозку нать каку-нито! – произнес, опомнившись, дьякон.
С повозкою (нашлась одна с отвалившимся колесом) провозились до вечера. Руки, однако, были привешены как надо что у Станяты, что у Ноздри, и к вечеру возрожденная повозка уже стояла, доверху нагруженная и готовая к походу. Только тут все трое почуяли, что надо немедленно поесть, и принялись рыскать по клетям. Нашли сыр, сухари, овощи, прихватили корчагу вина.
Раз пять к ним во двор заезжали турки, смотрели фирман и, пожимая плечами, поворачивали и пускали вскачь. Читать из них, по-видимому, никто не умел, но печать Сулеймана действовала безотказно.
…Только к исходу ночи путники, сбившие в кровь ноги, серые от устали и дорожной пыли, догнали отступающее греческое войско.
В ночи раздавались стоны и плач, скрипели на разные голоса повозки, беженцы шли и ехали, в панике оставляя свои хижины. Гнали скот. Надрывно блеяли козы. Греческие воины молча шли за потоком беженцев, прикрывая уходящих с тыла и с боков.
В канавах по сторонам дороги валялось брошенное добро, ржали обезножевшие брошенные лошади, копошились выбившиеся из сил, отчаявшиеся поселяне. Отдельные фигуры брели, покачиваясь на неверных ногах, назад, к оставленным очагам, к врагам – или же к новым господам? Все равно!
Пока добирались до Константинополя, насмотрелись всего. Проходили нищие деревни разоренных налогами и войной париков; слышали проклятья и ругань вослед отступающим войскам; видели целые побоища, когда греки у греков выдирали из рук добро и скотину, и не понять было по озлобленным, искаженным лицам, кто тут похититель, а кто законный владелец.
В лохмотьях, почти босые, черные от усталости и голода, входили они в Константинополь вместе с толпою беженцев, ведя под руки, со сторон, полумертвого отца Василия, но сохранив и даже приумножив дорогою иконы и книги.
Алексий тихо ахнул, увидя свое посольство в таком состоянии, и повелел всех немедленно накормить и вымыть.
Отец Василий уже и идти не мог, его внесли в монастырь на носилках, а Станята с Ноздрей тотчас из-за стола устремились в греческую баню, где уже и повалились без сил на горячие камни, под которыми, обогревая их, проходил по глиняным трубам огонь. И только одного не хватало им теперь: ржаного квасу и русского березового веника!
К вечеру Станька, умытый, переодетый и гордый собою, сбивчиво и горячо повествовал Алексию о своих подвигах. Были достаны и расставлены вдоль стен привезенные святыни. Алексий глядел, то собирая брови хмурью, то улыбаясь, оценивал, а Станята называл стоимость, немного, совсем немного и привирая. Указывая на несколько, добытых дорогою, присовокупил:
– А эти в канаве подобрал! Ни за что пришли!
И только сбереженного ангела не торопился показать, а уже напоследях развернул и поставил на казовое место.
Золотые волосы, уложенные крупными прядями, мягко сияли в сумраке покоя. Нежный овал лица был почти женственно обаятелен, и большие, неземные, завораживающие глаза словно смотрели оттуда, из сияющей глубины непостижного.
– Такие вот лики, – прошептал Алексий, – и являют нам, по слову Ареопагита, зримое, возвышающее нас высшими, чем людская молвь, глаголами к божественному созерцанию Истины!
Станята, не поняв сразу сложной мысли, чуть ошалело поглядел на наставника, боясь переспросить, и все-таки понял, сказавши по-своему:
– «Оттудова» смотрит?
Алексий молча привлек Станяту к себе и поцеловал в кудрявую бедовую голову.
Захват Сулейманом Галлиполи всколыхнул весь Константинополь. Толпы подходили к Влахернскому дворцу, кричали обидное. Каталонская гвардия то и дело разгоняла чернь.
Кантакузин вновь послал посольство к Урхану, предлагал уже сорок тысяч иперперов, лишь бы турки покинули европейский берег. (Половину этой суммы обещал достать Алексий.) Урхан все медлил с ответом. Но события уже грозили стать неподвластными Кантакузину. Приходило спешить. В апреле был возведен на патриарший престол Филофей Коккин и тотчас засел с Алексием за составление грамот на Русь.
В секретах патриархии творилась прямая бесовщина. Сам Филофей не единожды уговаривал Алексия, с тоскою глядючи на него, отказаться хоть от четверти своих требований. Но Алексий, что называется, закусил удила. Да и русское серебро должно было быть оплачено. И Филофей Коккин это понимал, и понимал Кантакузин, и понимали в секретах, а поэтому дело медленно, но продвигалось к своему завершению.
В Новгород вслед за отсылкою крещатых риз новому архиепископу Моисею пошла патриаршья грамота, подписанная Коккиным, требующая от новгородцев сугубого подчинения владимирской митрополии. Готовился долгожданный акт о переносе кафедры из Киева во Владимир. Уходили одна за другою грамоты к епископам Луцкому, Белзскому, Галицкому и Волынскому. Улаживалось дело с грамотою для Сергия, и уже подходил срок неизбежного, как виделось, поставления самого Алексия, но тут в Константинополь прибыл вновь соперник Алексия Роман, и дело вновь замедлилось, как замедляет свое движение корабль, попавший в тину. Роман тщательно скрывался от Алексия, но его присутствие обнаруживалось на каждом шагу. Одно спасало, что Ольгерд, кажется, пожадничал и не снабдил тверского ставленника великими деньгами.
В апреле был коронован Матвей Кантакузин. Торжество – едва ли не случайно – происходило не в Софии, а в церкви Богородицы во Влахернах. По городу судачили, что сам Григорий Палама плыл в Константинополь, чтобы воспрепятствовать венчанию Матвея, но его корабль был взят османами как раз во время захвата Галлиполи и фессалоникийский епископ угодил в плен к туркам. (Теперь Кантакузина добавочно обвиняли в том, что он не спешит выкупить великого подвижника.)