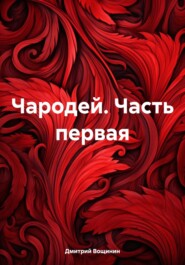По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Инструмент вселенной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Люба, его мать… ни на кого непохожая женщина, яркая, умная, волевая, словно красная роза. Я ее в шутку или всерьез называл часто по отчеству – Любовь Лукинична, но вот так получилось…
Петр Иванович задумчиво, с интересом слушал.
– Она, как первая осознанная любовь, незабываема и осталась навсегда рядом со мной…
– Вас все время окружают интересные женщины, – задумчиво произнес невольный слушатель неожиданной исповеди.
– Мне кажется, Петр Иванович, в каждые периоды жизни любовь разная… я бы сказал – разноликая… В молодости Люба была просто необходима мне… искренняя и разжигающая душу страсти желания…И я не знаю, как бы продолжалась моя жизнь, если бы она осталась рядом…
– Разноликая… Интересно. У вас каждое чувство подобно цвету…
– А как же… Все так просто… Цвет – это и есть отражение жизни…
– Я видел ваши картины у вас дома…
– Многим они кажутся нелепыми…
– Да нет, я бы этого не сказал… Наоборот, они очень оригинальны и по-своему открывают вашу душу другим…
– Иначе я не могу, поверьте…
– Не знаю, вправе ли я судить, но я заинтересовался глубиной вашей живописи.
– Вам я готов рассказать все, что вас интересует… Дело в том, что порой испытываю острое необъяснимое желание рисовать, а потом вдруг оно резко пропадает… Потому многие работы не закончены и еще ждут своего часа… Увиденное мною хотя бы один раз остается надолго… даже, мне кажется, навсегда…
Доверчивость Михаила Александровича сама открывала двери к беседе.
– Так вот, на последней в сине-фиолетовых тонах… просматривается сильный образ, – Петр Иванович дипломатично промолчал о догадках Надежды Матвеевны.
Михаил Александрович побледнел, видно было, что он не готов говорить об этом, но слова вырвались помимо его воли:
– Да, эти краски несут определенный смысл, и за ними стоит определенное лицо… Оно завладевает мною…И тревога во мне растет с каждой встречей…
– О какой встрече вы говорите?
– Она мне помогает, но я теряю себя, сила эта меня превращает в молодое существо… я вижу только ее, влекущую меня в неизвестность… я все время вижу… эту женщину… какая-то жгучая, неведомая мне красота, яркая… лилово-сиреневая…
Рука Михаила Александровича задрожала, и он вдруг умолк.
– Не беспокойтесь… Это может спровоцировать нервный криз… Надо послушаться врачей и держать себя спокойно… не думать об этом… забыть.
– Да-да. Я понимаю… Хотя забыть это трудно, даже невозможно… Это какая-то сверхсила, она выше моих возможностей сопротивления… Помните, я говорил вам про «Демона поверженного»?
– Помню… Но это лишь художественное воображение.
– Да, но и преображение… несколько, правда, безысходное… Мне трудно пояснить…
– Михаил Александрович, давайте не будет трогать эту тему… Вам трудно одному в этих стенах… поговорим о ваших близких… они помогут вам выйти из клиники как можно быстрее…
– Конечно, здесь мне немного одиноко, и прежде всего я не могу писать свои картины… Я уже вижу последний портрет по-иному… Но мне все время кто-то мешает представить его окончательно, хочет намеренно исказить…
– Вот вернетесь домой и напишите так, как надо… Вместе обсудим его…
– Вы, Петр Иванович, хорошо меня понимаете… душа моя с вами отдыхает.
Он посмотрел с улыбкой на приятеля:
– Еще не хватает прогулок с собакой… Вот Лола только молча смотрит… и понимает все во мне… без слов…
– Я постараюсь почаще бывать у вас.
Они шли по аллее, и глаза больного вновь засветились:
– Петр Иванович, а вы не думали никогда, что пожилые люди понимают и осознают свою молодость лучше, но не могут объяснить это своим детям?
– Что вы имеете в виду?
– Мне кажется, человек устроен так, что только собственные шишки от ударов на брошенные под ноги грабли способны по-настоящему его убедить и направить по избранному пути, если он, конечно, стремится к этому…
– Ну, да… педагогика движет цивилизацию, но вещь эта с индивидуальным подходом… старики должны жить немного отстраненно… своими интересами… и не очень мешать молодым.
– Это еще раз подтверждает, что и вы такого же мнения… Нельзя уподобляться мелким нравоучениями и, тем более, обидам… Все это в конечном счете называется совершенно правильно – занудством или чрезмерным брюзжанием.
– Ну, это вы немножечко перехватили, Михаил Александрович.
– Нисколько. Я еще раз убеждаюсь, мы должны жить своими интересами и двигаться независимо ни от кого… Хотя многие все время нам твердят, что мы – уже вышедший из употребления некий израсходованный материал… Я хочу сказать, что потенциал человеческого мозга рассчитан на более длительный период жизни, и только к реальной зрелости или даже старости он насыщается необходимой глубиной. Возможно, даже более значимой ее стадией восприятия мира… Вот, к примеру, мой сын… Я вижу, что мое присутствие к этой клинике как-то по-иному влияет на него, и он становится более отстраненным… Да и вообще, здешнее лечение – это просто абсурд, если не примитивный идиотизм…
– Конечно, я вас понимаю, но медицина есть медицина.
– Вы думаете, я ничего не осознаю и не понимаю, где нахожусь? Но ведь это может произойти с каждым. И если человек до этого не дожил, он лишился чего-то, ему непонятного… ранее неизведанного.
Петр Иванович хотел возразить, но больной продолжал:
– Главная медицина, Петр Иванович, – в нашей голове, а все остальное – «от лукавого».
– Вы твердо так считаете?
– Вы намекаете на некую грань сумасшествия… А ведь по большому счету именно за этой перегородкой я чувствую свое лучшее состояние, собственное осознание… и даже выход…
– Выход?
– Да-да… Когда мы снимаем сами же придуманные иллюзии, мы ближе к здоровью… к истине…
– Мне трудно это понять.
–Вы знаете, это прозрение… все это началось сравнительно недавно, несколько лет назад. Я будто приглянулся высшим силам, и они начали со мной разговаривать и пояснять окружающее… А вот эта самая медицина… просто смешно… надменно определила в этом мою болезнь…
– Но согласитесь, – начал было собеседник…