
Хеску. Кровь Дома Базаард
Лилиан вскинула на него гневный взгляд, шумно выдохнула через нос – и сдалась.
Внутри монструозное авто оказалось не менее впечатляющим, чем снаружи: кожаные сиденья, панели из вишневого дерева, медь и бронза. Будь этот день обычным, Лилиан бы не переставая крутила головой и радовалась возможности прокатиться на такой машине, но сейчас она, устало откинувшись на сиденье рядом с Джеймсом, лишь отстраненно отметила про себя необычность обстановки и уперлась взглядом в спинку переднего кресла.
Машина шла плавно, словно неровности асфальта ее ничуть не беспокоили, и вскоре они покинули знакомый Лилиан район. По мере того как солнце опускалось за горизонт, мелькающие за окном улицы выглядели все более холодными и чужими, небоскребы постепенно уступали место обычным жилым домам, а те становились все ниже и появлялись все реже. День стремительно угасал, в воздухе уже разлились синие чернила подступающей ночи.
Они ехали уже больше получаса – в полной тишине. Джеймс хранил молчание, неотрывно смотря вперед и поглаживая птичий череп на своей трости. Лилиан пару раз бросила на него быстрый взгляд и снова уставилась прямо перед собой – что-то в его позе, в манере держаться, несвойственной пожилым людям, не дающей думать о нем как о пожилом человеке, словно заставляло сохранять дистанцию.
– У тебя, полагаю, много вопросов, – наконец подал голос Джеймс. Лилиан чуть вздрогнула от неожиданности и обернулась к нему. – Отвечу на главные.
Джеймс замолчал, будто собираясь с мыслями. Тени, проникающие через окно машины, скользили по его лицу, то скрывая морщины, то подчеркивая блестящую черноту глаз.
– Да, я действительно твой родственник. Нет, я не причиню тебе вреда, ты моя кровь и к тому же совсем детеныш.
Лилиан смотрела на него, не шевелясь и никак не реагируя. Бросив мимолетный взгляд на пейзаж за окном, Джеймс продолжил:
– Мы едем ко мне домой. Точнее, теперь к нам домой, потому что жить ты будешь со мной. Да, ехать далеко. – Он сделал паузу и посмотрел прямо на Лилиан. – Меня зовут Тиор Базаард. Твоя мать была моей дочерью, но не вздумай называть меня дедушкой.
Наверное, Лилиан нужно было удивиться. Попытаться выяснить что-то. У них в семье бытовало негласное мнение, что ее мать, Джулия, – сирота и что о родителях не рассказывает ничего потому, что потеряла их каким-то чудовищным образом. В другой ситуации Лилиан, скорее всего, задала бы массу вопросов, но сейчас лишь кивнула, опустошенная и, казалось, разучившаяся испытывать сильные эмоции.
Какое-то время она просто сидела не шевелясь, подложив под себя руки и уперев взгляд в вишневую обивку переднего сиденья.
У мамы был отец. У мамы есть отец. А вот самой мамы – мамы больше нет.
То огромное, что медленно заполняло все ее существо с момента аварии, с момента, когда она, открыв глаза, увидела безжизненно повисшую между сиденьями мамину руку, вдруг развернулось, заполняя ее до конца, без остатка, навалилось, поглощая, топя в своей вязкой бесконечности, впивающейся в нее миллиардами бритвенных лезвий, и из глаз Лилиан хлынули слезы. Она опустила лицо в ладони, сотрясаясь в беззвучных рыданиях, пытаясь понять как, как это могло произойти, как ей жить теперь в мире, где нет странных маминых сказок по вечерам; нет огромных порций мороженого по пятницам, которые отец покупал на всех по пути с работы; нет маминого голоса, требующего не заходить к ней в мастерскую без стука; нет запаха растворителя и крохотных мазков масляной краски на ее одежде и коже, которые она не заметила и не оттерла; нет папиных утренних поисков ключей от машины, нет его ставшего ритуальным каждодневного обещания купить батарейки в кухонные часы; нет препирательств родителей о том, можно ли ей шоколадные хлопья перед сном; нет даже их ссор – нет ничего, что она привыкла считать своей жизнью.
С какой-то неумолимой отчетливостью Лилиан поняла, что никогда больше не увидит свой дом, свою комнату, свои игрушки, что эта дорога – ее прощание с привычным укладом дней, что эта огромная черная машина уносит ее не просто от родного города, но от всей ее жизни, которая теперь навсегда осталась в прошлом и уже никогда не будет прежней.
Слезы текли и текли, пока легкие не заболели от судорожных всхлипов. В груди образовалась пустота, в мыслях – тягучая вата.
Когда она оторвала руки от лица, то увидела, что Тиор протягивает ей платок. Он смотрел на нее еще пару секунд, а затем, вздохнув, вновь устремил взгляд вперед, на летящую перед ними дорогу.
Лилиан, рассеянно сминающей в руках платок, показалось, что в отстраненном выражении лица его что-то изменилось, и даже чеканный профиль выглядит теперь не таким жестким.
Когда Тиор вновь заговорил, не отрывая глаз от дороги, Лилиан вздрогнула от неожиданности.
– Я не видел твою мать пятнадцать лет. Но это не значит, что я ничего не чувствую. – Он помолчал и повернул к ней голову – тяжело, медленно, словно через силу признавая, что горе Лилиан касается и его. – И на самом деле ее звали Джабел.
Они ехали долго. Коттеджи сменились полями, деревьями, ночь окончательно завладела миром, укутав его черным бархатом. Лилиан, измученная событиями этого дня и убаюканная мерным движением машины, заснула, прислонившись головой к окну.

Тиор Базаард смотрел на девочку, которая заснула, отдавшись на милость усталости. Не таким он представлял свое потомство. Но вот оно, непредсказуемое влияние человеческой крови: волосы не черные, как у него самого или ее матери, а каштановые, кожа хоть и кажется оливковой, на самом же деле светлее и просто загорела…
Тиор вздохнул.
Что же ты наделала, Джабел?
Он любил дочь. Правда любил. Внимания ей и Лимару доставалось поровну – как и наказаний. Сын со временем должен был занять его место, а до того гордо носить титул шибет, наследника. Лимар полностью был предан их быту, их жизни, их народу. В нем Тиор никогда не сомневался.
Но Джабел была другой – с юности. Как только ей разрешили самостоятельно передвигаться по внешнему миру, она стала проводить там слишком много времени. Читала книги, написанные людьми, завела какие-то знакомства, назвавшись Джулией. Потом уговорила его отпустить ее учиться рисованию в человеческий университет, аргументируя просьбу тем, что в их среде нет достойных учителей и ее талант просто умрет. Справедливости ради стоило признать, что это было правдой: рисовала Джабел великолепно, в свои юные годы превосходя местных мастеров.
Он сдался и отпустил ее, наказав возвращаться домой при каждой возможности.
Она упорхнула, счастливая.
Приезжала на каникулы, взахлеб рассказывая о мире людей, потом надолго исчезла, сказав, что у нее сложный проект.
А затем вернулась. Чтобы сообщить, что влюбилась. Что знает: отец и брат ее не отпустят и не благословят, что ее человеческого мужчину не примут. Что отказывается от всего и выходит замуж.
Это был гром среди ясного неба. Первой мыслью Тиора было, что это ловушка, часть Игры. Что кто-то – неважно, кто именно, врагов у их рода хватало – решил пойти в обход правил и убрать члена семьи не физически, а устранив из их Дома. Он тщательно проверил все, что касалось избранника дочери. Нет, обычный человек. Обычный. Человек.
И она ушла. Оставила все, что связывало ее с семьей и своим народом, со слезами на глазах простилась с ним и братом – оба хранили молчание, хоть и смотрели ей вслед.
Спустя четыре года она сообщила ему, что он стал – она использовала человеческое слово, не принятое в их среде, лишенной понятия «двуступенчатого» родства, – дедушкой. Короткая искра радости вспыхнула в его сердце, но он тут же затоптал ее: дочь предпочла своей семье людскую долю, и, хотя его детеныш принес детеныша, этот ребенок был человеком. Существом другого рода, другой природы.
«Кстати, об этом, – робко добавляла Джабел в конце письма. – Возможно, тебе интересно будет узнать, что у Лилиан разные глаза. Один голубой, другой карий. Местные врачи говорят, что есть небольшая надежда, что с возрастом ситуация может измениться, разница станет не такой заметной, но я-то понимаю, что это значит. Как и ты».
Да, он понимал. Смешение их крови с человеческой приводило к подавлению первой. Человеческая кровь была более жидкой, но более быстрой, более живой и молодой. Она поглощала наследие их народа, делая детей-полукровок совершенно обычными. Но изредка по неведомой причине их кровь не уступала человеческой, а начинала существовать как бы одновременно с ней, не перемешиваясь. И проявляясь внешне. И первым признаком были глаза разного цвета.
Тиор запретил себе привязываться к ребенку даже мысленно: она будет расти среди людей, ничего не зная ни о себе, ни о своей семье, ни об истинном устройстве мира. Таково желание ее матери.
Он долго думал над ответом и в итоге ограничился сухим, но вежливым пожеланием долгой счастливой жизни детенышу.
Джабел, получив ответ, заплакала и прижала письмо к груди – она была почти уверена, что отец не ответит. Слишком глубока была обида. Слишком чудовищно ее предательство.
То письмо, написанное фиолетовыми – цвета их семьи – чернилами на темном пергаменте и доставленное – конечно! – ночью, стало единственной ее связью с домом, со своим родом, со своей природой.
Она гадала, когда сняли со стены в Мараке ее портрет: в тот день, когда она объявила о своем решении или когда официально покинула поместье, оставив все, что связывало ее с семьей?
Джабел не знала, что Тиор так и не отдал этого приказа.
Шли годы. Лимар достаточно успешно вел Игру. Поступок Джабел подкосил их положение, но все же они не рухнули, их Дом все еще был силен, и на общих собраниях с Тиором здоровались с прежним почтением, не избегая его прямого взгляда.
А потом случилось это. Лимара вывели из Игры.
Когда Джабел уехала учиться, на четвертом этаже осыпалась штукатурка со стен. Когда она сообщила о своем уходе, во всем доме исчезли ковры и мягкая мебель. Когда умер Лимар, стены дома почернели.
Если Тиор не демонстрировал свою привязанность к детям, это не означало, что он ее не питал.
Он заперся в своем кабинете, потолки в котором стали еще выше, а краска на стенах – еще темнее, и думал. Следуя Правилам, Совет прислал ему официальное письмо с уведомлением, где, кем и когда был убит Лимар. Позже пришлет и ритуальное оружие, используемое в Игре, рикун – длинный ромбовидный кинжал. И это все, что останется у него от обоих детей.
Это все будет потом, позже. Но что делать сейчас? От мыслей гудела голова, от предположений, где теперь окажется их Дом, с крыши начинала сыпаться черепица.
Дом Базаард остался без наследника. Конечно, он мог написать Джабел, и, возможно, – возможно! – она пришла бы, вернулась, поняв всю серьезность положения. Но делать этого Тиор не хотел. Он уважал выбор дочери, как бы болезнен для него самого тот ни был.
В самых формальных и скупых выражениях, перепроверяя каждое слово, чтобы в нем не слышалось просьбы, Тиор сообщил Джабел о смерти ее брата. Ответ пришел на следующий же день: дочь в слезах умоляла дать обещание, что никогда, ни при каких обстоятельствах Тиор не попросит ее отдать в Игру Лилиан.
Он обещал.
Больше она не писала.
И вот теперь Джабел не стало. Тиор не видел дочь пятнадцать лет, не видел ее детеныша – никогда.
Он смотрел на спящую разноглазую девочку, на щеках которой тускло поблескивали дорожки высохших слез, и думал, неужели она – его последняя надежда? Выросшая среди людей, ничего не знающая о своей семье, о правилах Игры, об их мире! Чуждая всему тому, что для Тиора являло саму жизнь и ее смысл.
Немая.

Граница миров была незаметна. У наиболее чувствительных людей она могла бы вызвать легкое головокружение, случись им каким-то чудом ее пересечь, для народа Тиора она проявлялась легкой рябью в воздухе. Почувствовав ее, Лилиан проснулась и, сонно моргнув, нахмурилась, в первый момент не понимая, где находится. Затем воспоминания нахлынули на нее, и она прерывисто глубоко вздохнула, сдерживая норовящие выступить на глазах слезы.
Молодец.
Лилиан посмотрела в окно, надеясь узнать местность, и глаза ее распахнулись в выражении безмолвного удивления. Оглянувшись, она попыталась осознать увиденное: простая проселочная дорога, слева и справа подпираемая заброшенными полями, уходящими вперед до самого горизонта. Но стоило Лилиан повернуть голову и моргнуть, прогоняя легкую рябь в глазах, как она увидела, что эту обычную дорогу пересекала еще одна – широкая, аккуратно усыпанная гравием. Поле, только что уныло покачивающее рыжеватыми стеблями сорняков, исчезло, уступая место просторному лесу с могучими деревьями, за которым черной тенью тянулся к небу силуэт замка.
Тиор краем глаза следил за реакцией девочки и теперь испытал мимолетный прилив гордости за свой дом.
Марак был всем. Это не было только названием поместья или особняка в нем, как не было ни зданием, ни всей огромной прилежащей к нему территорией. Марак был местом.
Местом по ту сторону внешнего мира, пограничьем, которое не могли найти никакие приборы, которое не задерживалось ни на каких человеческих картах.
Домом.
Широкую гравийную дорогу с двух сторон окружали исполинские клены – такие огромные, что ствол не обхватят и трое взрослых мужчин. Их кроны, смыкаясь, создавали над дорогой изумрудный купол, мягко шелестевший на ветру, а между листьев крохотными искорками вспыхивали белые звезды. Впереди же высилась громада замка. Черного, как сама ночь, вытянувшегося вверх, четырехэтажного, с двумя царапающими небо башнями по бокам.
Потрясенная, Лилиан обернулась к Тиору, пытаясь взглядом выразить все свое удивление и все вопросы, но тот лишь улыбнулся краешками губ, свободнее кладя ладонь на трость.
Машина скользила по дороге, шурша шинами, а Лилиан, подавшись вперед, пыталась рассмотреть в лобовое стекло замок, становящийся все больше с каждым проглоченным колесами метром.
Когда машина наконец остановилась и дверцу открыла чья-то услужливая рука, Лилиан на секунду замешкалась, но тут же, будто на что-то решившись, выбралась наружу, не дожидаясь приглашения.
Она ступила на гравий, хрустнувший под подошвами ее ботинок, закинула голову, пытаясь полностью охватить взглядом громаду Марака, вдохнула – и замерла.
Воздух был другим. Густым и сладким, напоенным ароматами ночных цветов и неожиданно свежим – а еще знакомым. Как мысль, которую забываешь за мгновение до того, как произнести, и вот наконец вспомнил; как стихотворение, сочиненное ночью в полусне, чьи строчки внезапно вновь всплывают в сознании утром.
Ветер коснулся щек Лилиан, словно утешая ее, стирая следы слез с кожи, – и в запахе, который он принес с собой, крылось что-то, от чего сердце Лилиан сжалось от щемящей грусти узнавания. Этот ветер обвил ее, обнял, окутал всю, проникая в волосы, касаясь кожи, обещая чудо – неясное, далекое, но заставляющее сердце замирать.
Лилиан стояла, боясь пошевелиться, прикрыв глаза и забыв обо всем – об аварии, о Тиоре, обо всех вопросах и мыслях, что крутились в голове, – и просто вдыхала, впуская в себя этот воздух, который каким-то неведомым образом убаюкивая кричащую боль внутри, исцелял рваную кровоточащую рану потери и заполнял пустоту в груди.
И чуть тише стало горе, чуть притупилось воющее чувство одиночества, обрушившееся на нее словами врачей в больнице, и отступило, скаля зубы, обратно в небытие облезлое и безликое «сирота».
Гравий зашуршал под ногами Тиора, когда он обошел машину и встал невдалеке, ничего не говоря и лишь ожидая, когда Лилиан подойдет к нему.
Она прерывисто вздохнула и открыла глаза, стараясь в темноте наступившей ночи рассмотреть Марак.
Она стояла, не отрывая глаз от черных стен и неровностей на бордюрах, обещающих при дневном свете стать лепниной. Стрельчатые окна тянулись к покатой крыше, на которой (по краям и даже в центре) недвижимыми стражами замерли гаргульи, – они появились в детстве Тиора, когда у его Дома настали трудные времена и все дни проходили в напряженном ощущении необходимости защищаться.
Тяжелые двустворчатые, в два человеческих роста, двери утопали в нише, охраняемой барельефами двух каменных сатиров, сжимающих в мускулистых руках секиры и выступающих из стены на шаг, словно они готовы в любой момент кинуться в бой. Над дверьми, накрывая вход своим силуэтом, распростер крылья ворон.
Дом менялся с течением времени и ходом событий, но эти детали оставались неизменными.
Лилиан смотрела на место, которое теперь должно было стать ей домом, и даже не осознавала, как в душе ее медленно разливается покой, словно она долго бежала и вот наконец может остановиться.
Тиор сделал несколько шагов вперед, ко входу, и оглянулся на Лилиан, которая последовала было за ним, но замешкалась, бросая последний взгляд на Марак перед тем, как войти внутрь. Громада незнакомого до этого дня замка не давила на нее, а, наоборот, казалась надежной защитой, как кажется непоколебимой стеной ребенку стоящий рядом взрослый.
Дверь распахнулась, приглашая войти, и Лилиан вслед за Тиором переступила порог Марака.
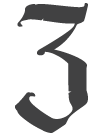
Милло вваливается в охотничий домик насквозь промокший, бледный – и совершенно рыжий.
Пинио, «на всякий случай» ждущий его здесь с винтовкой и несколькими ножами, сначала вскидывает оружие, но, увидев собрата, опускает обратно на стол. Милло едва держится на ногах, он буквально падает внутрь, не заботясь даже о том, чтобы закрыть за собой дверь, за которой до сих пор, даже ночью, хлещет ливень.
Пинио кидается к нему, подхватывает под мышки, ногой захлопывает дверь и, перекинув руку Милло через плечо, тащит внутрь, кладет на кровать. Милло шумно дышит, глаза его с ярко-изумрудными радужками широко раскрыты, с и без того бледных щек сошла вся краска, на веках проступили вены.
Кое-как устроив собрата, Пинио бросается в другую комнату – армейские ботинки стучат по полу – и через минуту возвращается с бутылкой виски. Приподняв голову Милло, он буквально заставляет того сделать несколько глотков. Милло сначала никак не реагирует на этот жидкий огонь, а потом начинает резко кашлять, как будто бы приходит в себя и осторожно садится на кровати. Пинио удовлетворенно кивает, уходит запереть дверь, возвращается и устраивается рядом с Милло на грубо сколоченном тяжелом стуле.
– Сработало? – осторожно спрашивает он, наблюдая, как с каждым глотком виски, бутылку с которым Милло теперь держит уже самостоятельно, на лицо собрата возвращаются краски.
Тот коротко фыркает. Получается совсем по-звериному.
– Всмятку! – Он снова делает глоток, на мгновение зажмуривается и наконец отставляет бутылку на стол.
Пинио качает светловолосой головой.
– Видок у тебя был такой, будто ты сам умер, – замечает он как бы между делом, но Милло не новичок, он знает все эти нюансы интонаций, за которыми кроются обвинения.
– Вообще-то, можно сказать, что так и было, – огрызается Милло, впиваясь своими зелеными глазами в прозрачно-голубые радужки Пинио. – Вселение, знаешь ли, дает полное ощущение присутствия!
Пинио как будто смягчается, сложив кончики бледных пальцев и садясь на стуле свободнее.
– Просто твой облик… – Он не заканчивает фразу, а кивает на собрата, выразительно приподняв пшеничные брови.
Милло не сводит с него взгляда пару секунд, вновь тянется к бутылке, делает еще один добрый глоток и цедит сквозь зубы:
– Оно выжрало меня до конца. До самого, чтоб его, щербатого дна! Ты хоть представляешь, каких усилий стоит удержать человека, когда он несется навстречу своей смерти?! Инстинкт самосохранения никто не отменял!
Пинио улыбается краешками губ, выставляя перед собой ладони, – что ты, никаких претензий. Милло бросает на него еще один уничтожающий взгляд, отставляет бутылку, встряхивает головой до хруста в шее – и начинает стремительно меняться. С ярко-рыжих волос будто смывают цвет невидимым растворителем, делая их всего лишь рыжевато-пшеничными, изумрудные глаза, горящие на фоне почти белоснежной кожи, становятся бледно-голубыми, а сама кожа приобретает едва заметный бежеватый оттенок.
Милло снова смотрит на Пинио, чуть приподняв бровь: доволен? Тот расплывается в хищной улыбке и кивает.
– Ты уверен, что все прошло как надо? – спрашивает он как бы между делом, стряхивая с камуфляжной штанины невидимую пылинку.
Милло шумно втягивает носом воздух, стараясь не разразиться многоэтажной бранью.
– Машину размозжило до заднего сиденья. Я своими глазами видел, как у нее вывалился карбюратор. Крови было столько, что хоть купайся. – Он делает паузу и смотрит Пинио в глаза, пытаясь понять причину такого допроса. – Ты сам-то как думаешь, что будет, если на фордик наедет фура?!
Пинио снова улыбается – радости в этой гримасе столько же, сколько океана в бассейне с хлоркой. Он удовлетворенно кивает и неторопливо встает, упершись ладонями в колени.
Милло, что-то бормоча под нос о том, что его, опытного вселенца, допрашивают как мальчишку, снова прикладывается к бутылке – адреналин от ужаса водителя, едущего навстречу собственной гибели, еще блуждает в его крови. Он смотрит в окно, за которым ливень и не думает успокаиваться, шумя, как двигатель самолета.
Он ничего не видит до тех пор, пока не становится поздно.
Пока не оказывается, что Пинио двумя пальцами прижал к его лбу монету с прозрачным камнем в центре, второй рукой придерживая шею и не давая дернуться.
Милло в первый момент пытается сопротивляться, но не успевает: как только Сила Пинио касается монеты, он замирает безвольной куклой, глядя в стену пустыми стеклянными глазами и свесив руки. Пальцы разжимаются, бутылка падает на пол, разливая по половицам виски.
Губы Пинио беззвучно шевелятся, пока он стоит за спиной Милло. Камень в монете темнеет, словно набирая внутрь дыма. Пинио специально намекнул Милло на внешний вид, заставив его потратить силы и концентрацию на поддержание чар, чтобы усыпить его бдительность. И без того вымотанный, осушивший почти половину бутылки виски, Милло не смог сопротивляться, и воля его тут же сломалась.
Проходит пара минут, и камень в монете окончательно темнеет, становясь похожим на грязный авантюрин, а Милло падает на спину. Пинио аккуратно убирает монету в нагрудный карман, тщательно его застегивает, а затем смотрит на распростертое перед ним бездыханное тело, приложив длинный тонкий палец к губам. В доме все пропахло алкоголем, можно сымитировать пожар из-за неосторожного обращения с печкой. Но пламя сразу привлечет внимание, а этого Пинио хотелось бы избежать. Можно скинуть тело в бегущую рядом речку, но нет уверенности, что течение и камни повредят труп достаточно, чтобы скрыть характерную внешность.
Вздохнув, Пинио мысленно проклинает столь заметные черты своего рода. Они одни из немногих, кому приходится носить чары постоянно не чтобы притвориться кем-то, а просто чтобы люди на них не оборачивались. В итоге он решает пойти на компромисс: открыть печку, напустить в дом дыма, как будто Милло угорел по пьяни, а пожар устроить позже. Для этого у него тоже есть средства.
Его работа окончена, а человеческим следователям совершенно незачем знать, что это убийство без физического воздействия.
Он разбирает винтовку и вместе с ножами убирает в небольшой, потрепанного вида чемоданчик – железные углы, ржаво-рыжая расцветка, пара наклеек из аэропорта. При щелчке потерявших блеск замков все содержимое оказывается в другом месте. Пинио открывает чемоданчик еще раз и осторожно кладет на бордовую атласную подкладку монету, сопроводив ее короткой запиской. Щелкают замки. Монета исчезает.
Пинио поднимает чемодан со стола, переворачивает вверх дном и снова открывает, уже с другой стороны. На черной подкладке стоит средних размеров горшочек с простенькой голубой росписью. Пинио осторожно берет его в руки и заглядывает внутрь – бледное лицо его окрашивается красноватыми тенями от тлеющих в глубине горшочка углей. Он удовлетворенно ухмыляется и, прошептав над ними несколько непонятных человеческому уху слов, несет горшочек в спальню, к печке. К телу Милло. Через два часа угли разгорятся, глина треснет. Вспыхнет огонь. Исчезнут улики.
Закончив с приготовлениями, Пинио в последний раз оглядывается на дом и труп. Бедный старый глупый Милло! Он был действительно хорошим вселенцем, носителем Дара клана, но бывают задания, у которых не должно остаться свидетелей. Даже сам Пинио – ищейка высшего ранга, высоко ценимый ша-Минселло, – не уверен, что ему не перережут глотку, когда он приедет с подробным докладом.


