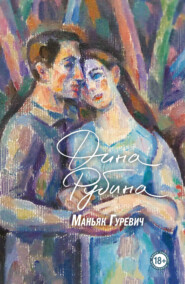По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отлично поет товарищ прозаик! (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Видишь ли, весной там не хватает витаминов, – ответил он и улыбнулся. – А я не могу без них.
И я его не стала больше спрашивать об этом; с ним невозможно было разговаривать; все не как у людей.
Даже последний наш разговор не получился человеческим. Потому что мы с самого начала, с того момента, когда он заглянул в аудиторию, не поняли друг друга. Я не поняла, что он пришел прощаться, а он не понял, что я решила наконец влюбиться в него, урода… Поэтому, когда я обошла пианино, заглянула ему в глаза и сказала, что здорово его доконало восстание на Сенатской площади, он кивнул, отвернулся к окну и вдруг сказал:
– Мы с Юркой уезжаем… – Аудитория была пустая и гулкая.
– Ты сегодня плохо побрил левую сторону шеи, – сказала я. – Поэтому по тебе, как по замшелому дереву, можно узнавать, где север и где юг.
– Мы уезжаем завтра, знаешь…
– У тебя бритва плохая. Или ты невнимательно брился, – сказала я. И заплакала. Беззвучно заплакала, чтобы он не слышал. А он и так не слышал, он сидел, отвернувшись к окну.
– Значит, план такой: я меняю Юрке фамилию, чтобы эта мадам не сумела найти его, отвожу парня к моей тете в Пермь, а сам еду в Институт живописи. Я не могу без Питера.
Я проглотила застрявшие в горле соленые всхлипы и сказала ровным голосом:
– Это жестоко – отнимать у женщины ребенка.
– Замолчи! – закричал он. – Что ты понимаешь, клоп! Господи, ну что ты понимаешь в жизни! Что ты знаешь об этой женщине? Это истеричное, дрянное, мелочное существо! Это опустившийся человек, у которого чувство материнства сведено к нулю. Юрка издерган, ему пять лет, а он уже знает, что такое мама в подпитии! Да что там! – Он замолчал.
– А ты в институт? – спросила я. – Опять в институт? Но ведь тебе уже двадцать семь, магистр, уже почти тридцать! Ты всю жизнь собираешься провести замечательным Никем? Талантливым, обаятельным Никем?
– Ты знаешь… – сказал он. – Когда-то я наткнулся на одну старинную гравюру – «Похороны Александра Македона». И никогда не забуду: воины, понурив головы, несут тело, и с носилок свесилась его мертвая рука. Рука – пустая… Владел половиной мира, а туда с собой ничего не взял. Сколько буду жить, буду помнить: пустая, беззащитная ладонь великого человека. Жест нищего, просящего подаяние…
Он медленно играл одним указательным пальцем хроматическую гамму от ноты си-бемоль вниз. И я отчетливо представила себе длинное черное шествие с телом Александра Македонского и увидела, что у воина, несущего факел перед носилками, было лицо Алтухова. А факел освещал безжизненную руку, свесившуюся с носилок, и тяжелые круглые глаза воина, спрятавшие в себя скорбь.
И я подумала, что, наверное, за то мы и любили Алтухова, что он рисовал себе захватывающие, чарующие картины, а потом дарил их нам, насовсем, выбрасывал, как выбрасывает большой волшебник всякие мелкие чудеса на потеху обыкновенным людям, забавлял нас – и сам забавлялся этим от скуки. Потом покидал нас и мучился, что не делает ничего значительного, и шлялся по городам, и объявлялся снова сумасшедший, непонятный Алтухов…
А может быть, он тем и отличался от нас, что, не обнаружив в себе гениальности, он был потрясен до глубины души, это стало несчастьем всей его жизни. А мы как-то не замечали, не хотели замечать своей обыкновенности, своей будничности… Проще говоря, мы здраво смотрели на эти вещи, как и до?лжно смотреть на них взрослым людям.
– …Ты напишешь мне хотя бы, проклятый Ал-тухов?
– Не плачь, – сказал он. – Ты плачешь, как пьяный Сашка Белоконь. А я не люблю его…
– А кого ты любишь?!! – заорала я.
– Тебя, – просто ответил он. Потом неловко залез в рукава своего плаща, взял скрипку под мышку и вышел.
Я стояла у окна, смотрела, как по узенькому тротуару прочь от консерватории удаляется сутуловатая фигура в синем плаще с поднятым воротником, и представляла, как через недельку какой-нибудь сашка белоконь сбегает в деканат, а потом, вернувшись, объявит: «Собратья, Алтухов пропал!»
– Не пропал, а исчез… – машинально поправлю я его и подумаю: как это мы тогда не поняли друг друга! Я не поняла, что он пришел прощаться, а он не понял, что я наконец-то решила влюбиться в него, урода…
Дом за зеленой калиткой
До сих пор не могу понять, что же заставило меня эти дурацкие штучки взять… Забрать… Да что там церемониться! – украсть.
Да-да, налицо была кража. Пусть ерундовая, пусть совершенная восьмилетней девчонкой, но все же кража. Было бы понятно, если б я использовала их по назначению. Все знают, какой интерес проявляют даже маленькие девчонки ко всякой косметической чепухе. Так ведь нет! Я вытряхивала вязкий яркий брусочек губной помады сразу же, выйдя за калитку, – наивная неосмотрительность! И тут же, прополоскав блестящий патрон в прозрачной воде арыка, мчалась домой, ужасно довольная приобретением.
Смешно сказать! Меня волновал прекрасный, как мне казалось, женский профиль, выбитый на крышке патрона. Четкий античный профиль с малюсенькими пластмассовыми кудряшками. И забавлял стаканчик, действовавший в патроне как микроскопический лифт. Он подавал вверх оранжевый столбик помады к толстым морщинистым губам учительницы.
Она это делала с аппетитом. Когда мое и без того немощное внимание совершенно оскудевало и моя кофта, покрытые цыпками руки с обгрызенными ногтями, нос и язык начинали интересовать меня явно больше, чем клавиатура и нотная грамота, учительница вздыхала, протягивала к окну белую ватную руку и, достав из-за решетки патрон с губной помадой, приступала.
– Ну, навай… навай… – лениво бормотала она, глядя в маленькое зеркальце и священнодействуя над губами – то округляла их бубликом, закрашивая углы рта, то сочленяла, старательно вымазывая верхнюю губу о нижнюю. – Четвертым и пятым пальцами попеременно… Они никуда не годятся… Раз-и, два-и… Считай вслух!
Я ненавидела свои четвертый и пятый пальцы.
Они были не только отвратительны сами по себе – слабые, путающиеся между черными клавишами, они еще были предателями и притворщиками. В обыденной жизни эти пальцы ничем не давали знать о себе, не выпячивались, не лезли не в свое дело.
Стоило же только им завидеть клавиатуру – наглей и противнее четвертого и пятого пальцев на свете ничего не было. Они нажимали не ту ноту, а если и попадали, то слишком слабо. Быстро играть они не могли, а если требовалось, то за компанию прихватывали с собой массу ненужных звуков. Даже если у них не было своего дела в данный момент, они просто нахально торчали в разные стороны, как сломанные велосипедные спицы.
И вообще я прекрасно сознавала, что мне в жизни не подняться до таких высот, как «Элизе». Учительница изредка присаживалась к инструменту и каждый раз играла одно и то же – прекрасную и труднейшую, как мне казалось, пьесу Бетховена «Элизе». Лицо ее в эти моменты выражало лень и спокойствие, она как бы говорила: «Видишь, бестолочь, как можно играть!» И действительно, играла хорошо, хотя было совершенно непонятно, как умещались ее толстые пальцы на клавишах.
Нельзя сказать, что я ненавидела занятия музыкой или не любила учительницу. Мое отношение к этому делу можно было бы назвать чувством обреченности. Так было нужно – заниматься музыкой, как мыть руки перед едой, а ноги перед сном. Уж очень мама хотела этого. К тому же мы успели купить инструмент, а бросить занятия при стоящем в доме инструменте было кощунством. Мне передавался мамин священный ужас перед торчащим без дела инструментом, словно он мог служить укором не только маме, но и мне, и даже когда-нибудь моим детям. Таким образом, моя музыка убивала двух зайцев – оправдывала покупку пианино и, по выражению папы, сокращала мое «арычное» время.
Дом учительницы находился в нескольких трамвайных остановках от нас. А поскольку я из дома выпускалась мамой с космической точностью, то почти всегда попадала на один и тот же трамвай с веселым кондуктором. То есть он не был веселым, он был как бы веселым. И покрикивал всегда одно и то же:
– А ну, кто храбрее, кто смелее? – и зорко поглядывал на пассажиров. – Кто билетики возьмет?
Пассажиры смеялись и брали билетики. И никто, казалось, никто, кроме самого кондуктора да еще меня, не замечал эту подлую, низкую игру, это издевательство над людьми и презрение к ним. А между тем было совершенно очевидно, что подразумевалось под веселым покрикиванием.
«Это как будто я с вами шучу так, канальи… – подразумевалось. – Но ведь и вы, и я понимаем, что все вы ба-альшие мерзавцы и норовите проехать бесплатно, пока вас не прижмешь».
Подразумевалось еще много другого, чего я выразить и объяснить самой себе не могла, но остро чувствовала.
Вообще в то время я очень остро чувствовала не только всяческую ложь и натянутость в отношениях между людьми, а даже весьма критически относилась к некоторым общепринятым между взрослыми словам. Многое меня коробило и приводило в сильнейшее недоумение. Так, например, когда однажды папа, рассердившись на моего дядю, крикнул: «Ноги моей не будет в этом доме!» – я, помню, сильно удивилась и долго размышляла над тем, почему мой честный и в общем-то толковый папа несет такую дикую чушь. Ведь можно сказать просто: «Больше я туда не приду». По этому поводу я представляла почему-то, как папину ногу осторожно и бережно отделяют от него и торжественно несут куда-то, а папа, обнаружив ошибочность маршрута, отчаянно машет руками и кричит: «Нет-нет! Не туда! В этом доме ноги моей больше не будет!»
Маленький, в две комнаты, с застекленной терраской дом, в котором жила учительница с мужем, завершал собой тихий тупичок.
Толкнув изумрудно-зеленую калитку, я попадала во двор, который нес на себе отпечаток некой тайны. Здесь даже в самые знойные дни было прохладно и тенисто. Весь двор поверху перекрывали густо разросшиеся виноградные лозы. Они карабкались по специально врытым для них деревянным кольям, стелились сверху по перекрытиям, свешивая, словно в изнеможении, щедрые райские кисти. Жемчужно-зеленоватые «дамские пальчики»; круглый, лиловый, с прожилками «крымский»; черный «бескосточный»…
Кажется, виноградные лозы забирались даже на крышу и там продолжали свое греховное пиршество с упоительно знойным солнцем.
Вспугнутые ветерком листья о чем-то суетливо лопотали, тщетно пытаясь спрятать редкие солнечные блики. Ослепительные белые блики плясали по рыжему кирпичу дорожки, по моей неприкрытой макушке, по нотной папке.
К деревянным перекрытиям всегда была прислонена грубо сколоченная лестница. На ней неизменно стоял муж моей учительницы – грузный, плохо выбритый пожилой человек в синих бриджах и голубой майке. Он все время возился с виноградом – срезал спелые гроздья, подвязывал лозы. Иногда я видела его на крыше.
Наверное, он и там контролировал тайную виноградную жизнь.
Муж моей учительницы был удивительным субъектом. Он никогда не замечал меня, не отвечал на мои неизменно вежливые приветствия, продолжая свою нескончаемую возню с виноградом. Но когда, отсидев положенную дозу за инструментом, я направлялась к калитке, каждый раз происходило одно и то же.
Муж моей учительницы, почему-то воровато оглянувшись на зарешеченное окно комнаты, молча хватал меня за руку и совал большую виноградную кисть. Лицо при этом ничего не выражало и было скорее сердитым, чем добрым.
Всучив виноградную кисть, он, так же воровато поглядывая на окно, подталкивал меня к калитке, мол: «Иди, иди, знай свое дело».
Пролепетав «спасибо», я выскакивала за калитку и несколько метров мчалась по инерции. Затем тормозила и шла медленно, неторопливо отрывая от кисти и отправляя в рот по ягодке.
Скоро я настолько привыкла к виноградному подношению, что, проходя мимо мужа моей учительницы, чуть-чуть замедляла шаги, опасаясь, что он не успеет схватить меня за руку.
И я его не стала больше спрашивать об этом; с ним невозможно было разговаривать; все не как у людей.
Даже последний наш разговор не получился человеческим. Потому что мы с самого начала, с того момента, когда он заглянул в аудиторию, не поняли друг друга. Я не поняла, что он пришел прощаться, а он не понял, что я решила наконец влюбиться в него, урода… Поэтому, когда я обошла пианино, заглянула ему в глаза и сказала, что здорово его доконало восстание на Сенатской площади, он кивнул, отвернулся к окну и вдруг сказал:
– Мы с Юркой уезжаем… – Аудитория была пустая и гулкая.
– Ты сегодня плохо побрил левую сторону шеи, – сказала я. – Поэтому по тебе, как по замшелому дереву, можно узнавать, где север и где юг.
– Мы уезжаем завтра, знаешь…
– У тебя бритва плохая. Или ты невнимательно брился, – сказала я. И заплакала. Беззвучно заплакала, чтобы он не слышал. А он и так не слышал, он сидел, отвернувшись к окну.
– Значит, план такой: я меняю Юрке фамилию, чтобы эта мадам не сумела найти его, отвожу парня к моей тете в Пермь, а сам еду в Институт живописи. Я не могу без Питера.
Я проглотила застрявшие в горле соленые всхлипы и сказала ровным голосом:
– Это жестоко – отнимать у женщины ребенка.
– Замолчи! – закричал он. – Что ты понимаешь, клоп! Господи, ну что ты понимаешь в жизни! Что ты знаешь об этой женщине? Это истеричное, дрянное, мелочное существо! Это опустившийся человек, у которого чувство материнства сведено к нулю. Юрка издерган, ему пять лет, а он уже знает, что такое мама в подпитии! Да что там! – Он замолчал.
– А ты в институт? – спросила я. – Опять в институт? Но ведь тебе уже двадцать семь, магистр, уже почти тридцать! Ты всю жизнь собираешься провести замечательным Никем? Талантливым, обаятельным Никем?
– Ты знаешь… – сказал он. – Когда-то я наткнулся на одну старинную гравюру – «Похороны Александра Македона». И никогда не забуду: воины, понурив головы, несут тело, и с носилок свесилась его мертвая рука. Рука – пустая… Владел половиной мира, а туда с собой ничего не взял. Сколько буду жить, буду помнить: пустая, беззащитная ладонь великого человека. Жест нищего, просящего подаяние…
Он медленно играл одним указательным пальцем хроматическую гамму от ноты си-бемоль вниз. И я отчетливо представила себе длинное черное шествие с телом Александра Македонского и увидела, что у воина, несущего факел перед носилками, было лицо Алтухова. А факел освещал безжизненную руку, свесившуюся с носилок, и тяжелые круглые глаза воина, спрятавшие в себя скорбь.
И я подумала, что, наверное, за то мы и любили Алтухова, что он рисовал себе захватывающие, чарующие картины, а потом дарил их нам, насовсем, выбрасывал, как выбрасывает большой волшебник всякие мелкие чудеса на потеху обыкновенным людям, забавлял нас – и сам забавлялся этим от скуки. Потом покидал нас и мучился, что не делает ничего значительного, и шлялся по городам, и объявлялся снова сумасшедший, непонятный Алтухов…
А может быть, он тем и отличался от нас, что, не обнаружив в себе гениальности, он был потрясен до глубины души, это стало несчастьем всей его жизни. А мы как-то не замечали, не хотели замечать своей обыкновенности, своей будничности… Проще говоря, мы здраво смотрели на эти вещи, как и до?лжно смотреть на них взрослым людям.
– …Ты напишешь мне хотя бы, проклятый Ал-тухов?
– Не плачь, – сказал он. – Ты плачешь, как пьяный Сашка Белоконь. А я не люблю его…
– А кого ты любишь?!! – заорала я.
– Тебя, – просто ответил он. Потом неловко залез в рукава своего плаща, взял скрипку под мышку и вышел.
Я стояла у окна, смотрела, как по узенькому тротуару прочь от консерватории удаляется сутуловатая фигура в синем плаще с поднятым воротником, и представляла, как через недельку какой-нибудь сашка белоконь сбегает в деканат, а потом, вернувшись, объявит: «Собратья, Алтухов пропал!»
– Не пропал, а исчез… – машинально поправлю я его и подумаю: как это мы тогда не поняли друг друга! Я не поняла, что он пришел прощаться, а он не понял, что я наконец-то решила влюбиться в него, урода…
Дом за зеленой калиткой
До сих пор не могу понять, что же заставило меня эти дурацкие штучки взять… Забрать… Да что там церемониться! – украсть.
Да-да, налицо была кража. Пусть ерундовая, пусть совершенная восьмилетней девчонкой, но все же кража. Было бы понятно, если б я использовала их по назначению. Все знают, какой интерес проявляют даже маленькие девчонки ко всякой косметической чепухе. Так ведь нет! Я вытряхивала вязкий яркий брусочек губной помады сразу же, выйдя за калитку, – наивная неосмотрительность! И тут же, прополоскав блестящий патрон в прозрачной воде арыка, мчалась домой, ужасно довольная приобретением.
Смешно сказать! Меня волновал прекрасный, как мне казалось, женский профиль, выбитый на крышке патрона. Четкий античный профиль с малюсенькими пластмассовыми кудряшками. И забавлял стаканчик, действовавший в патроне как микроскопический лифт. Он подавал вверх оранжевый столбик помады к толстым морщинистым губам учительницы.
Она это делала с аппетитом. Когда мое и без того немощное внимание совершенно оскудевало и моя кофта, покрытые цыпками руки с обгрызенными ногтями, нос и язык начинали интересовать меня явно больше, чем клавиатура и нотная грамота, учительница вздыхала, протягивала к окну белую ватную руку и, достав из-за решетки патрон с губной помадой, приступала.
– Ну, навай… навай… – лениво бормотала она, глядя в маленькое зеркальце и священнодействуя над губами – то округляла их бубликом, закрашивая углы рта, то сочленяла, старательно вымазывая верхнюю губу о нижнюю. – Четвертым и пятым пальцами попеременно… Они никуда не годятся… Раз-и, два-и… Считай вслух!
Я ненавидела свои четвертый и пятый пальцы.
Они были не только отвратительны сами по себе – слабые, путающиеся между черными клавишами, они еще были предателями и притворщиками. В обыденной жизни эти пальцы ничем не давали знать о себе, не выпячивались, не лезли не в свое дело.
Стоило же только им завидеть клавиатуру – наглей и противнее четвертого и пятого пальцев на свете ничего не было. Они нажимали не ту ноту, а если и попадали, то слишком слабо. Быстро играть они не могли, а если требовалось, то за компанию прихватывали с собой массу ненужных звуков. Даже если у них не было своего дела в данный момент, они просто нахально торчали в разные стороны, как сломанные велосипедные спицы.
И вообще я прекрасно сознавала, что мне в жизни не подняться до таких высот, как «Элизе». Учительница изредка присаживалась к инструменту и каждый раз играла одно и то же – прекрасную и труднейшую, как мне казалось, пьесу Бетховена «Элизе». Лицо ее в эти моменты выражало лень и спокойствие, она как бы говорила: «Видишь, бестолочь, как можно играть!» И действительно, играла хорошо, хотя было совершенно непонятно, как умещались ее толстые пальцы на клавишах.
Нельзя сказать, что я ненавидела занятия музыкой или не любила учительницу. Мое отношение к этому делу можно было бы назвать чувством обреченности. Так было нужно – заниматься музыкой, как мыть руки перед едой, а ноги перед сном. Уж очень мама хотела этого. К тому же мы успели купить инструмент, а бросить занятия при стоящем в доме инструменте было кощунством. Мне передавался мамин священный ужас перед торчащим без дела инструментом, словно он мог служить укором не только маме, но и мне, и даже когда-нибудь моим детям. Таким образом, моя музыка убивала двух зайцев – оправдывала покупку пианино и, по выражению папы, сокращала мое «арычное» время.
Дом учительницы находился в нескольких трамвайных остановках от нас. А поскольку я из дома выпускалась мамой с космической точностью, то почти всегда попадала на один и тот же трамвай с веселым кондуктором. То есть он не был веселым, он был как бы веселым. И покрикивал всегда одно и то же:
– А ну, кто храбрее, кто смелее? – и зорко поглядывал на пассажиров. – Кто билетики возьмет?
Пассажиры смеялись и брали билетики. И никто, казалось, никто, кроме самого кондуктора да еще меня, не замечал эту подлую, низкую игру, это издевательство над людьми и презрение к ним. А между тем было совершенно очевидно, что подразумевалось под веселым покрикиванием.
«Это как будто я с вами шучу так, канальи… – подразумевалось. – Но ведь и вы, и я понимаем, что все вы ба-альшие мерзавцы и норовите проехать бесплатно, пока вас не прижмешь».
Подразумевалось еще много другого, чего я выразить и объяснить самой себе не могла, но остро чувствовала.
Вообще в то время я очень остро чувствовала не только всяческую ложь и натянутость в отношениях между людьми, а даже весьма критически относилась к некоторым общепринятым между взрослыми словам. Многое меня коробило и приводило в сильнейшее недоумение. Так, например, когда однажды папа, рассердившись на моего дядю, крикнул: «Ноги моей не будет в этом доме!» – я, помню, сильно удивилась и долго размышляла над тем, почему мой честный и в общем-то толковый папа несет такую дикую чушь. Ведь можно сказать просто: «Больше я туда не приду». По этому поводу я представляла почему-то, как папину ногу осторожно и бережно отделяют от него и торжественно несут куда-то, а папа, обнаружив ошибочность маршрута, отчаянно машет руками и кричит: «Нет-нет! Не туда! В этом доме ноги моей больше не будет!»
Маленький, в две комнаты, с застекленной терраской дом, в котором жила учительница с мужем, завершал собой тихий тупичок.
Толкнув изумрудно-зеленую калитку, я попадала во двор, который нес на себе отпечаток некой тайны. Здесь даже в самые знойные дни было прохладно и тенисто. Весь двор поверху перекрывали густо разросшиеся виноградные лозы. Они карабкались по специально врытым для них деревянным кольям, стелились сверху по перекрытиям, свешивая, словно в изнеможении, щедрые райские кисти. Жемчужно-зеленоватые «дамские пальчики»; круглый, лиловый, с прожилками «крымский»; черный «бескосточный»…
Кажется, виноградные лозы забирались даже на крышу и там продолжали свое греховное пиршество с упоительно знойным солнцем.
Вспугнутые ветерком листья о чем-то суетливо лопотали, тщетно пытаясь спрятать редкие солнечные блики. Ослепительные белые блики плясали по рыжему кирпичу дорожки, по моей неприкрытой макушке, по нотной папке.
К деревянным перекрытиям всегда была прислонена грубо сколоченная лестница. На ней неизменно стоял муж моей учительницы – грузный, плохо выбритый пожилой человек в синих бриджах и голубой майке. Он все время возился с виноградом – срезал спелые гроздья, подвязывал лозы. Иногда я видела его на крыше.
Наверное, он и там контролировал тайную виноградную жизнь.
Муж моей учительницы был удивительным субъектом. Он никогда не замечал меня, не отвечал на мои неизменно вежливые приветствия, продолжая свою нескончаемую возню с виноградом. Но когда, отсидев положенную дозу за инструментом, я направлялась к калитке, каждый раз происходило одно и то же.
Муж моей учительницы, почему-то воровато оглянувшись на зарешеченное окно комнаты, молча хватал меня за руку и совал большую виноградную кисть. Лицо при этом ничего не выражало и было скорее сердитым, чем добрым.
Всучив виноградную кисть, он, так же воровато поглядывая на окно, подталкивал меня к калитке, мол: «Иди, иди, знай свое дело».
Пролепетав «спасибо», я выскакивала за калитку и несколько метров мчалась по инерции. Затем тормозила и шла медленно, неторопливо отрывая от кисти и отправляя в рот по ягодке.
Скоро я настолько привыкла к виноградному подношению, что, проходя мимо мужа моей учительницы, чуть-чуть замедляла шаги, опасаясь, что он не успеет схватить меня за руку.