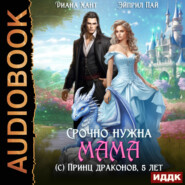По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Горничная с секретом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И тут же заорала, беззвучно: на меня смотрели чёрные выпученные глаза-блюдца на узком голубоватом лице. Я сразу поняла, что вижу перед собой сирену, – шея ихтионки была изрезана подвижными щелями жабр.
Я даже не успела захотеть похожие: ихтионка раззявила чёрный рот с зубами-иглами и закричала над меня под водой так страшно, что я невольно отпрянула, неловко закрываясь руками. Вздёрнув меня ещё раз на поверхность, ихтионка развернула за плечи к берегу и придала ускорения трезубцем, ткнув им в мягкое место, которое тут же прошибло магическим разрядом.
Вскоре ладони и колени упёрлись в песок, глубина сменилась отмелью у самого берега.
Шлёпнув по воде плоским хвостом, ихтионка скрылась в серых водах.
– Девочка… – задумчиво протянул мальчик в серой рубахе, подпоясанной обычной верёвкой. – Смотри, деда, девочка!
– И правда, девочка, – откликнулся старый рыбак, прекращая смолить лодку и подслеповато вглядываясь мне в лицо из-под приставленной ко лбу ладони. – Откуда взялась только?
– Деда, она тебя не понимает.
– Думаешь, не понимает? Эй, ты чья, девочка?
– На меня чайка напала, – ответила я невпопад. – Я очень испугалась.
– Ах, чайка… Эти могут, житься от них нет. Жирные, здоровые, что твои орлы. Скоро с рыбой покончат и за нас примутся…
Морщинистое лицо старика прорезала щербатая усмешка и я поняла, что рыбак шутит.
Так, не сразу, а спустя месяц, я всё-таки добралась до людей…
Не до заветного городка в низине, а всего лишь до бедной рыбацкой деревушки на пару десятков глиняных домиков. И на этот раз я осталась: у Аньшаны, невестки «деды», который меня нашёл, недавно родилась двойня и ей требовалась помощь по хозяйству. Училась я быстро, несмотря на внешнюю хрупкость была выносливой, жилистой. Наградой за помощь по хозяйству был кров и наваристая рыбья похлёбка, люди звали её ухой и ароматный, из глиняной печи, хлеб…
Возвращаться к чайкам даже из чистого любопытства, ровно, как и пытаться обернуться хоть бы даже в дворовую курицу было боязно – ну, как на этот раз навсегда забуду, что человек и закончу свою недолгую жизнь в жирном наваристом бульоне?
Чудно?, конечно, но та самая чайка, что прогнала меня из стаи, прилетала время от времени, будто её мучила совесть. Усаживаясь на плетень, птица наблюдала за мной: как я мету двор, ношу воду, чищу рыбу, перебираю грибы и коренья, стираю пелёнки, замешиваю тесто и пеку в тандыре хлеб…
И порой мне казалось, что взгляд у чайки не птичий вовсе, слишком уж умный, слишком… человеческий
Словно смотрел на меня из птичьих глаз кто-то другой.
Глава 7
Окрестности Замка-на-Горе, наши дни
– …Оборот – даже после многолетней практики – дело тонкое, муторное да мудрёное. Сил и энергии, девочка, жрёт он немеряно. Но и это не главное. После оборота львиная часть твоих сил уходит на поддержание личины, что приняла. Если жалеть себя не будешь и тренироваться каждый день, придёт час, когда энергия потечёт в нужное русло сама собой, ты даже замечать той личины не будешь. Но если в своих силах не уверена, а обернуться надо – выбирай личину одного с тобой веса, и, желательно роста, – говорил когда-то дядюшка, а я, маленькая, решительно сжимала кулаки, слушая старого ведуна с открытым ртом и готовилась совсем-совсем-ни-капельки не жалеть себя.
– Сложнее всего оборачиваться зверем, который по массе тебя превосходит: тут оборот удержать трудно, ну да есть хитрости: например, перед оборотом взять недостающий вес в руки. Такой оборот производить сложнее, а поначалу и вовсе кататься по земле и выть от боли будешь, когда предметы сторонние под шкуру, значит, врастать станут. Ну да ничего. Наживное это, девочка… Тут главное не отлынивать от тренировок и упорно шагать к поставленной цели. Мать-Вещунья, она, знаешь, настойчивых любит… На далёкой родине моей говорят, что судьба норовистой кобылице подобна: слабого, неуверенного всадника сбросит, не пожалеет, а вот сильному и упорному покорится. Ты уж сама решай, слабая ты чи сильная…
– Самое же опасное для юного чародея – обернуться сразу во что-то мелкое. Как ты, дурёха… сразу в чайку. Сил на поддержание такой личины почти не требуется, возвращаться же в свою истинную суть как правило, и не хочется вовсе. Не встречал я прежде таких, как ты, девочка, но даже те, кто лишь сознанием сливаться с птицей ли, зверем, могут, знают: пьянит такое слияние почище гномьей браги. А потому легко можно забыть, что ты человек, а не птица вовсе. Я ведь когда тебя чайкой приметил, думал, как и я, ведьма какая птицу ведёт… А когда присмотрелся, что да как, волосья дыбом стали! Гляжу, не птенец это, а человек, как есть человек! Даром, что многоликий… Ну, думаю, не покажу девчонке дурной кузькину мать прямо сейчас, не вернуться ей из чайки в человека обратно…
…Стоило шагнуть под сень подпирающих небесный свод деревьев, жадно втянуть ноздрями родной запах хвои да прелой листвы, утонуть стопами в мягком ковре мха, как голос дядюшки, казалось, перестал быть воспоминанием, ожил… и слышался теперь, как в детстве, прямо со всех сторон, родной, как дыхание этого леса!
Губы сами собой растянулись в нежной улыбке.
Когда дядя взялся за моё обучение, не щадил совершенно, заставляя держать самые сложные личины часами. Поначалу тряслась и плакала от боли, а потом ничего, привыкла. Так же как раз в сутки неизменно давать себе отдых от оборота.
Вот и сейчас, прежде чем обернуться и припустить по знакомым с детства тропам, я с наслаждением избавилась от надоевшей личины горничной. Ботинки скинула, чулки стянула и затолкала в заплечный мешок. Пошла, с наслаждением ступая босыми ногами по мшистому ковру.
Заприметив ручей, опустилась на колени, стянула с плеч лямки. Зачерпнув в ладони студёную воду, принялась с наслаждением пить маленькими глотками. Водица родной земли – живая. А мой дом – там, где обожаемый дядюшка с Ивасиком и Солью…
Напившись, умылась, пригладила волосы, выбившиеся из косы.
Зрение у меня острое, куда острее, чем у обычных людей, потому и в сумерках отчётливо различила в гладкой чёрной поверхности своё отражение.
Обыкновенное, к слову, отражение. До той же Дианы мне далеко…
Коса у меня каштановая, самая обычная для наших краёв. Разве что густая, пальцами одной руки не обхватишь. Когда оборачиваюсь в горничную леди Ди, намеренно её укорачиваю и делаю жиже. Глаза – зелёные, нос прямой, рот большеват, пожалуй, да губы чересчур яркие и пухлые…
– Эх, девка, – вздыхал дядюшка, когда я, по его словам, «заневестилась». – Ты когда к людям выходишь, всё ж таки напускай личину-то. Приглушай свои природные краски, больно уж щедро тебя Матушка-Природа одарила. Не ровен час заприметит, кто ненужно.
«Кто ненужно» – это дядюшка на заезжих дворянчиков намекал, что в наши места поохотиться заезжали, да на старостиных сыновей из ближайшей вёски. Как говорится, сызмальства не заладилось у меня со старостиными сыновьями… Тех, что из Горшков, даже учить приходилось уму-разуму, когда руки распускать пытались. Обернувшись ланкой или косулей, водила бугаев по лесу, тропы путала, водяниц да кикимор науськивала… Самые рьяные «ухажёры» после седмицы в лесу шёлковыми становились и вслед дочке старого ведуна смотреть боялись.
Но дядюшку я слушалась, «краски» приглушала, румянец со щёк изгоняла безжалостно, цвет глаз на болотный, лягушачий меняла, губы более тонкими делала. Как сказала бы леди Ди, «приличными».
Леди, кстати, в последствии, «краски» мои тоже жить мешали – в первый же день найма расшипелась кошкой, чтоб «больше глаза её эдакого непотребства не видели».
Я не спорила – куда мне до утончённой, воздушной и возвышенной во всех отношениях Дианы? Кто я рядом с ней? Лесная дикарка, варварка… Вот только щурилась на меня Диана так, словно завидовала или ревновала. А этого уж точно не могло быть. Потому как не может такая, как она, такой, как я завидовать.
Ну никак не может!
…Плеснув в лицо последний раз, я вновь надела заплечный рюкзак с гостинцами для детворы. Тяжёлый, увесистый. Специально набрала побольше для лёгкого оборота. Путь же от Драконьего Гнезда до родного дома решила проделать медведицей. Бегают они быстро, даром, что косолапые…
В тот момент, когда руки и ноги сменились когтистыми звериными лапами, а заплечный мешок с гостинцами скрылся под толстой шкурой, краски сумеречного леса сразу померкли, зрение у медведей не шибко острое, а вот запахи и звуки, наоборот, усилились.
Хорошо бежать зверем по лесу! Каждый шаг таким диким, таким первобытным восторгом во всём теле отдаётся, такой безбашенной радостью, что пьянит и правда шибче любого дурмана. След молодой косули чуть было голодную медведицу за собой не увёл: в последний миг спохватилась да удержала. Сама, дура, виновата: забыла днём поесть. А ведь зверю куда сложнее голод сдерживать. Зверь – он же инстинктами живёт и непонятно ему, что есть дела поважнее. В другой раз, оно, конечно, поохочусь. Сейчас же каждая минута на счету…
Бревенчатый домик выглянул из-за деревьев так неожиданно, что как бежала, так и села увесистым задом на землю. Сижу, глазами хлопаю, и сердце от нежности щемит. И слёзы в звериных глазах, потому как даже в сумерках видно, что ставни подслеповато просели, крыша покосилась и течёт, конечно, в дождь… Огородик мой бурьяном зарос, – трудно дядюшке полоть уже, хоть руками, хоть силой… Но хоть поленница под завязку дровами забита. Не иначе, благодарные за лечение селяне подсобили…
Вот только знаю я, чего стоит дядюшке врачевание чужих болячек… Ему самому лечение не повредило бы!
Когда я покидала родной дом два круга назад, с Дианой, оставила дядюшке мешочек с задатком, что от леди получила. Наказывала порошки непременно купить, компоненты для зелий… крышу, опять же, подлатать, защиту подновить… Да разве я дядюшку не знаю? Ведь всё на лекарства для Ивасика потратил, да на калачи для Соль. И кто бы спорил, только не я: в малых души не чаю! Но надо ведь и дяде о себе не забывать…
Ежели не дай Вещунья, с ним что случится, и меня рядом не окажется, ну что тогда с детьми будет?!
– Здорово, Гвэни, – поприветствовал меня дядя, приближаясь и я привычно-изумлённо захлопала глазами.
Вот как ему удаётся подходить так тихо и незаметно, что даже медвежьим слухом не услышать?!
Гвэни, или Гвэнифер, как меня звали бы, родись я на родине дядюшки, старый ведун зовёт меня лишь когда я в обороте. Так уговорено, с малолетства ещё: чтоб не забывала, что не я это настоящая, а личина.
Не спеша становиться Йеннифер, или «девочкой», сграбастала сухого, как жердь старика с косматыми чёрными бровями когтистыми лапами, прижала к мощной груди, заурчала утробно.
– Ну будет, дочка, будет, – растроганно прошептал дядюшка, зарываясь пальцами в косматую звериную шкуру.
Но я всё же не спешила с обратным оборотом: соскучилась так, что сердце вот-вот разорвётся, а такие нежности старый ведун допускал лишь когда я в личине. В человеческом обличье дочкой меня звал редко, больше пигалицей да егозой, девочкой ещё… Строгий у меня дядюшка, суровый даже… Но это для тех, кто в суть глядеть не умеет, сердца не видит. Оттого и строгость напускная: ведь такое сердце у старого ведуна мягкое, приходится обручами сковывать, чтоб не дай Вещунья не разорвалось от жалости ко всему живому…