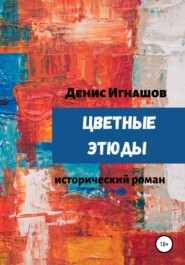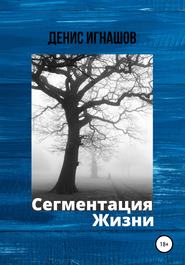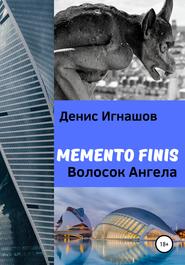По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Memento Finis: Демон Храма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не сговариваясь, мы одновременно обратили свой взгляд на бумаги, разложенные на столе.
– Давайте рассуждать логически, ? задумчиво промолвил Полуянов. ? Есть два документа, беречь которые завещано потомкам. Изменить их содержание невозможно, но можно на них, без ущерба для основной информации, оставить некие знаки, которые должны указать путь поиска…
– Какие тут могут быть знаки? ? с заметным раздражением спросил Сарычев. ? Есть письма, и есть их дословные, как я понимаю, переводы на русский язык… И ничего более.
– Сами письма, я думаю, можно оставить в покое, ? сказал я. ? Во-первых, они созданы намного раньше предполагаемой встречи Петра Ракицкого и перстня Соломона, а во-вторых, на них нет никаких дополнительных пометок. Если Пётр Ракицкий хотел оставить какое-то скрытое сообщение, он, вероятнее всего, сделал бы это в своих переводах.
– Это похоже на правду, ? тут же быстро согласился со мной Полуянов; его глаза вспыхнули озорным зелёным огоньком.
– Но на переводах нет никаких особых знаков, ? возразил Сарычев, повертев в руках обе странички с переводами Петра Ракицкого. ? Возможно, что-то скрыто в самих текстах переводов… А они, вообще, идентичны оригиналам? Может быть, следует поискать их несоответствия с письмами? ? с надеждой спросил он.
Я решил сопоставить тексты писем их переводам. Полуянов на это только усмехнулся и скептически махнул рукой:
– Поверьте мне, эти переводы дословные. Пётр Ракицкий знал французский язык как родной, а в латыни, я думаю, он был одним из лучших специалистов не только в Советском Союзе, но и в мире.
Две странички, два перевода – один, письма Ногаре, сделан на печатной машинке, другой, письма Святослава Ракицкого, написан от руки. Печатный текст был немного подправлен красными чернилами. В одном месте слово «дорога» (via) было исправлено на «путь», в другом – «скрытая» (secretus) сила трансформировалась в «тайную». Как мне показалось, изменения сколь малые, столь и абсолютно несущественные для смысла текста. Правда, они имели свою дату исполнения, написанную в самом конце текста такими же красными чернилами и отмеченную с особой кричащей пунктуальностью следующим образом – 1968, 12-13.02, 19:51. Чуть выше этой даты стояла другая, видимо относящаяся к основному печатному переводу послания Ногаре. Она, как и весь основной текст, была напечатана на машинке и также ссылалась на вполне конкретное время завершения работы над переводом – 02.09.1954, 13:12. Получалось, что между переводом и его исправлениями прошло четырнадцать лет. Почему Пётр Ракицкий через столько лет решил добавить свой перевод замечаниями, ничего существенно не меняющими в содержании текста, да ещё так точно определил время внесения изменений? Странное, удивительно трепетное отношение к точности, к несущественной детали, теряющейся в толще лет. Зачем необходимо фиксировать дату перевода и его изменения, да ещё с такими деталями – часами и минутами? Откуда такая необъяснимая дотошность в датировании? Что это – персональная особенность или желание точно зафиксировать важную временную точку?
– Пётр Ракицкий был пунктуальным человеком? ? спросил я Полуянова.
– В общем-то, да, ? неуверенно ответил Полуянов; я заметил, что он был озадачен моим вопросом. ? Он любил точность во всём.
– А письма и работы он всегда помечал с такой временной аккуратностью, как сделал это с переводом письма Ногаре?
– Датировать бумаги – это было в его практике. Такая странность, а точнее, особенность наблюдалась за Петром Ракицким. Чаще всего, правда, он обходился всё-таки днём, месяцем и годом, но иногда ставил и точное время. Это была просто особенная, ни к чему не обязывающая фишка, переросшая в некий автоматизм, ? ответил Полуянов и прибавил недоверчиво: ? Руслан, вы серьёзно полагаете, что в этих датах могло быть что-то скрыто?
– Меня смущают некоторые мелочи, ? решил объяснить я свои подозрения. ? Первая печатная дата перевода написана по схеме день-месяц-год-время, вторая, написанная от руки, – по принципу год-день-месяц-время.
– И что? ? Сарычев нахмурился, не найдя в моих словах ничего существенного. ? Я тоже, например, часто пишу дату по-разному.
Я пожал плечами:
– Возможно, в этом, действительно, нет ничего заслуживающего внимания, но если датирование бумаг стало у Ракицкого поведенческим автоматизмом, не кажется ли вам, что он должен быть однообразным?
– Логичное замечание, ? поддержал меня Полуянов.
– А потом, ? продолжил я, ? обратите внимание на вторую дату. В ней указаны два дня февраля и время. Логично предположить, что время относится ко второму дню и именно в 19:51 Пётр Ракицкий завершил свои исправления к переводу. Но зачем он тогда указал первый день – 12 февраля? И неужели для того, чтобы исправить два слова, необходимо было работать с переводом целых два дня?.. Мне кажется, что эти даты вообще никакого отношения не имеют к реальному времени сделанных переводов и исправлений.
– Что ты хочешь этим сказать? ? Майор засуетился.
– Моё предположение состоит в том, что не текст перевода, а его даты содержат закодированное сообщение.
– Так. ? Полуянов почесал лоб в раздумье. ? А в этом что-то есть… Руслан, и вы можете предложить ключ к этому коду?
– Я не уверен, ? проговорил я, разглядывая страницы с переводами двух писем, ? но, мне кажется, не зря эти два письма сильно связаны друг с другом…
– Перекрёстные ссылки на символы! ? воскликнул Полуянов, прочитав мои мысли.
– Именно, ? сказал я. ? Даты – это цифры. Цифры одного письма нумеруют некие объекты в другом письме. Предположим, это слова или буквы.
– Скорее всё-таки буквы, ? заметил Полуянов.
– Хорошо, ? я кивнул, ? буквы… Таким образом, получается… ? Я быстро сопоставил первую цифру печатной даты перевода Ногаре с соответствующей по номеру буквой перевода Святослава Ракицкого. ? «Двойка» первой даты – это «в», вторая буква в первом слове письма «уважаемый».
– Тогда месяц сентябрь, девятка, указывает на «й», ? сказал Сарычев. ? Ерунда какая-то получается.
– Совсем нет, ? возразил Полуянов. ? Это будет буква «и».
– А следующая буква получается по счёту тысяча девятьсот пятьдесят четвёртой…
– Совсем нет, ? заметил я. ? Год надо разделить на две части. Получится – «19» и «54». Девятнадцатая буква перевода письма Ракицкого – это «к», а пятьдесят четвёртая… ? Я возбуждённо зашевелил губами в немом подсчёте.
– «Т», ? опередил меня Полуянов.
– Тринадцатая и двенадцатая – это «о» и «р», ? громогласно объявил Сарычев. ? Что у нас получается?
– «Виктор»! ? радостно воскликнул я.
Майор непроизвольно в удовлетворении потёр руки и улыбнулся.
– Значит, работает, ? сказал он. ? А со второй датой что?
– Всё то же самое, ? заявил я. ? Девятнадцать – это «к», шестьдесят восемь – это «и», двенадцать и тринадцать идут вместе – это «ро», два – это «в»…
Наступила недолгая пауза.
– Ну, а тут точно какая-то путаница получается, ? пробурчал озадаченно майор. ? Девятнадцать – это «к», а пятьдесят один – это «б»… «Кировкб»… Что бы это значило?
– Виктор из КБ имени Кирова? ? выдал я свою первую ассоциацию и тут же отверг её: ? Весьма смутная наводка.
– Нет, нет, ? решительно запротестовал Полуянов. ? Мы забыли ещё одну дату перевода Петра Ракицкого, дату перевода письма его отца – 07.05.1945. Эти цифры, если действует перекрёстная ссылка, скорее всего, ссылаются уже на письмо Ногаре.
Схватив карандаш и водя им словно указкой, я быстро расшифровал эту запись:
– «Сели»… Что-то странное.
– Кто-то вместе с Виктором Кировым из КБ за что-то сел? ? съёрничал Сарычев.
– Это не «сели», ? сказал уверенно Полуянов. ? Обратите внимание, все даты, кроме этой ограничились цифрами, а здесь дед поставил ещё и маленькую прописную букву.
– «Г»? ? удивился майор. ? «Селиг», что ли?
Полуянов отрицательно покачал головой, взял у меня карандаш и ткнул им в букву.
– Носик у «г» слишком длинный, больше похоже на прописную «п»… «Селип»?
– Или латинскую прописную «n», ? вставил я. ? И тогда это «Селин»!
– Возможно, возможно, ? почесав задумчиво карандашом за ухом, промолвил Полуянов.