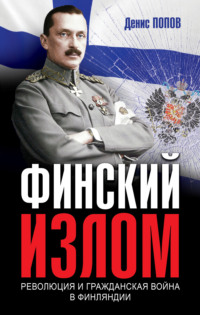Точка слома
Однако за час упорной работы ничего не было найдено. Огромный слой снега замел все следы, милиционеры с горем пополам прочесали лесополосу, пробивая себе путь в глубоком пласте снега – местами его глубина достигала метра – но и там никого и ничего не было. Патрули задержали только двух ночных алкашей, но никаких лиц, подходящих под описание убийцы и самого ефрейтора, встречено не было.
После обхода лесополосы отряду милиции дали пятнадцать минут на отдых, каждому выдали по 100 грамм водки и бросили на обход всех заброшенных зданий и оврагов Первомайки – искать труп ефрейтора. Также Летов приказал обращать внимание на свежие проруби в водоемах и груды кусков мерзлой земли – убийца мог скинуть труп в воду или закопать.
Самого же ефрейтора Михайлова Родиона Петровича, 1927 года рождения, уроженца села Чистоозерное Новосибирской области, объявили пропавшим.
Однако Летов был более чем уверен, что ефрейтор сейчас был в логове убийцы. Он словно чувствовал, что разыгравшийся аппетит душегуба требовал от него над кем-то поиздеваться, понимал жажду убийцы не просто убить, а мучить человека. Летов понимал, что раз уж душегуб нарушил свои правила однажды, то теперь будет нарушать их постоянно, и это похищение было лишним тому подтверждением. Было страшно представить, что сейчас творилось с Михайловым, но, наверняка, его сейчас или пытали, или уже уродовали его труп.
Ближе к восьми утра во двор райотдела въехал медицинский ГАЗ-55. Скрябин вошел в кабинет с маленькой девочкой на руках, укутанной в заснеженное покрывало. Сам ефрейтор милиции тоже был весь в снегу, а на «аэродроме» его синей фуражки вырос бугорок злосчастного снега.
Девочку усадили на стул. Ее лицо излучало только дикий ужас – красные заплаканные глазки били своей болью в душу любому, кто ее видел.
Летов быстро налил в граненый стакан кипятку из раскаленного железного чайника, который кипятился на маленькой электроплитке в кабинете Ошкина, не жалея насыпал туда чаю и поставил рядом с несчастной. Девочка к чаю даже не притронулась – ей было это не нужно.
Девочка, стеклянно таращась на стакан, периодически заикаясь и дрыгаясь в судорогах, быстро рассказала все, что слышала, но, к сожалению, из под кровати они видела лишь ноги убийцы.
Однако все, что произошло потом, после ее рассказа, было просто удивительно. Когда девочка рассказывала про убийство мамы, она опять начала плакать, истерика вновь завладела ей, да еще с большей силой, чем раньше. Но тут открылась та светлая сторона Горенштейна, его доброта, все то, что было у него до войны и все то, что после войны оказалось ненужным и заржавело в его душе, но было еще способно работать. Он успокоил эту девочку, она перестала плакать, обняла его и вжалась в китель, а Горенштейн, взяв ее на ручки, вышел из кабинета и отдал санитарам, которые курили около ГАЗа-55. Девочка Ира еще раз обняла бравого капитана милиции, а потом уехала в больницу.
На этот раз не пригодился и Кирвес.
В кабинете тогда было довольно много людей. Ошкин, Скрябин, два его помощника, Кирвес, Юлов со своим «Фотокром», Летов. Все они, даже хромой подполковник, таращились в потемневшее окно и смотрели на выезжающую машину «скорой помощи». Когда Горенштейн вошел в кабинет, все обернулись и уставились на него. В глазах каждого проступало неимоверное уважение и удивление: никто не мог подумать, что Горенштейн такой добрый человек, что он может так умело и добро общаться с детьми. Все смотрели на него, словно он вернулся с боевого задания, принеся с собой какие-то важные сведения.
Впрочем, для него это было не намного легче взятия какого-нибудь «языка».
…К сожалению всех, поиски ничего не дали. Патрулирование длилось до вечера, несмотря на постоянный снегопад и ударившие холода – температура опустилась до минус двадцати. Снег валил, бездушно уничтожая всевозможные улики, белая пелена завладела этим районом гнилых домиков, утопив в снегу все.
Все надежды следаков поймать загадочного убийцу закончились неудачей. Надежды на взятие по горячим следам умерли в снежном плену.
…Тем временем Павлюшину в голову взбрел весьма странный и неожиданный даже для него вопрос: «Кто его ловит?». Ну, раз уж один из таких сейчас висит в его бараке, то почему бы не узнать того, кто им руководит. Что самое интересное, Павлюшин ненавидел милиционеров – но не потому что они ловили его, нет, а потому что они мешали выполнять ему «великое дело» и сопротивлялись «очищению земли».
«Кто главный твой? Кто дело ведет?» – спросил Павлюшин, подходя к избитому ефрейтору.
Однако бравый милиционер ничего не ответил.
Снова куча ударов, мат, ор и ничего. Ненависть уже в который покрывала мозг Павлюшина, он после очередного удара обтер руки о галифе и достал измятый спичечный коробок.
«Нет, нет, нет, только не это!» – что есть мочи закричал ефрейтор, вспоминая ту адскую боль от ожогов.
-Кто меня ловит?! – повторил свой вопрос душегуб.
-Капитан Горенштейн!
-Как он выглядит?!
-Черный, кудрявый такой, с тебя ростом!
Помолчали. Павлюшин упал на пол, и заплакал.
«Ты чего?» – спросил удивленный ефрейтор.
-Достали! Почему люди не могут ненавидеть за чужое горе?
-В смысле?
-Человек такое мерзкое существо, омерзительная тварь. Мало того, что вы ничтожества, так вы еще и тупые мрази. Вот погляди сам: человек никогда не станет кого-то ненавидеть, пока этот кто-то не сделает больно тому человеку. Вот убей ты хоть тысячу этих кусков мяса, те, чьих родственников или друзей ты не убьешь, тебя ненавидеть не станут.
-Так ведь это хорошо! Ненависть никогда ни к чему хорошему не приводит.
-Наоборот, мразь. Знаешь, мой отец, когда не пил, как-то сказал, что не взаимной может быть только любовь. Остальное должно быть взаимным. И ненависть тоже.
-А к чему ты это?
-Я вот ненавижу вас, людей, вас, уродов! Но больше всего я ненавижу ментов, вот те куски мяса в синей шинели. Вы самые мерзкие из всех людей, самые омерзительные, самые отсталые – вы мешаете таким как я делать то, что мы должны делать, вы мешаете творить добро, творить то, что помогает миру – убивать вас, людишек, убирать лишние куски мяса с земли, очищать ее от этого говна! Мы дворники бл…ь, мы убираем грязь с земли, мы убираем людей, ибо понимаем, что мы выше людей, что нам дан дар стать судьей, нам дан дар стать очистителями земли, нам дан дар стать ее спасителями от ничтожеств, которые тупее, ужаснее и омерзительнее нас, спасителей! Вот я вас ненавижу, ментов, а особенно тех, кто меня ловит сильнее всего, тех, кто мне мешает сильнее всего. Я их ненавижу, ибо они убивают у меня возможность, а она единственный мой родственник теперь.
-То есть ты убиваешь, чтобы спасти землю?
-Да! Люди ее загрязняют, люди ужасны, омерзительны, от них блевать хочется, пока ты им череп не проломишь!
-А почему именно ты?
-У меня дар! У меня голоса, они мне говорят, они мне подсказывают. А еще мне плохо, но я держусь. Я велик, а почему – не твое дело! Мне дан дар, мне даны полномочия дворника земли! Не твое это дело, урод, кусок мяса, ничтожество!
Павлюшин замолчал, порычал, а потом неожиданно сказал: «Знаешь, что самое ужасное для меня было?»
-Что?
-Сострадание. Это самое омерзительное чувство, самое ужасное. Нельзя сострадать ничтожествам. Я, помнится, ужасался, когда вспоминал тех уродов, которых убил. Теперь такого нет. При этом раньше я думал, что только они ничтожны, а теперь понял, что ничтожны все, и теперь рамок нет, а значит и жить легче!
Ефрейтор повис на веревках и в комнате установилась недолгая тишина.
Потом Павлюшин принялся заниматься своим стандартным занятием: бить о пол пустые водочные бутылки. Раненый ефрейтор висел уже несколько часов, и просто молил бога о смерти. Его мучила жажда, неимоверная боль и страх – поэтому смерть для него сейчас была самым лучшим вариантом решения событий.
Павлюшин разбил последнюю бутылку. Он сделал шаг назад и наступил на большой осколок, произнеся одну фразу более-менее вменяемую фразу за последнее время: «Чертовы осколки».
Вдруг, совершенно неожиданно, от слова осколок у него в голове всплыли картины того жуткого дня, когда череп был проломлен. Он вскрикнул, схватился за волосы и повалился на пол. Ефрейтор подумал, что это очередная судорога, но нет: Павлюшин катался по полу, то и дела вспырывая кожу об острые осколки, но кричал вполне связанные слова: «Назад, назад, там немцы!»; «Оставьте его в моей башке, мне так легче!»
Однако Павлюшин представлял себе в это время какую-то бредятину: бежал он не по усеянной воронками земле, а по раскаленной лаве, повсюду летали его сослуживцы с вилами, пытаясь проткнуть его, пока Павлюшин не полетел по воздуху от мощного удара осколком, а потом вытащил его из головы и опять увидел свою жену, которая вместе с еще кучкой сослуживцев летела на него с вилой.
Вскочив, Павлюшин увидел висящую на веревках свою жену, которая, держа в ногах вилу, была готова навсегда проткнуть своего бывшего мужа. Павлюшин схватил топор, ударив со всей силы по ее виску, думая, что уже раз и навсегда убил ее, а убил, на самом деле, только несчастного ефрейтора.
В это время его мучения закончились – мгновенная смерть. Павлюшин еще порубил труп, после чего, размахивая окровавленным топором и дорубая лежащих на полу поверженных своих сослуживцев, стал разносить все в округе. Щепки летели во все стороны, но в глазах Павлюшина они были каплями крови своих «заклятых врагов» – сослуживцев с вилами, которых жена отправила убивать своего бывшего мужа.
Павлюшин разнес окровавленным топором свой стол, выбежал в коридор, принявшись рубить стены пустующих и занесенных снегом комнат барака. Черт знает, чем мы мог закончится этот приступ галлюцинаций, но в дело вмешался случай: при очередном замахивании топором Павлюшин ударил сам себя и упал на заваленный снегом пол без сознания. В таком состоянии к нему все равно приходили галлюцинации, за ним продолжали охотиться, но он уже ничего не разносил и никого не убивал.
Очнувшись, Павлюшин потер нехилую шишку где-то под толстой шапкой длинных волос, кое-как встал на ноги и открыл дверь комнаты. Выматерившись тому, что больше нет стола и что единственный его заложник ныне мертв, душегуб снял ефрейтора с веревок, положил на спину и, таща несчастного по заснеженному до жути коридору, вышел на улицу. За Павлюшиным, который пробивал себе дорогу в толстущем слое снега тянулся кровавый след, но ему было плевать – здесь, в этом одиноком бараке, он чувствовал себя в безопасности.
Павлюшин открыл дверь в уборную, аккуратно скинув покойного в выгребную яму. Вскоре он почти полностью потонул, а из темной жижи торчал лишь пучок его темных волос.
Глава 14.
«…Был мой мир безутешен.
Я ломал его стены, истребляя надежды…»
--группа «Агата Кристи»
Лежа на койке в комнате, Летов опять согнулся как лист бумаги. За окном торжествовал холод, а внутри Летова пылал какой-то жуткий мир, выбрасывая наружу дым в виде холодного пота и бросая пылающие обломки на землю в виде нестерпимых конвульсий.
Опять мысли о том, что от убийства станет легче. Опять борьба с самим собой. Идет уже четвертая сотня грамм водки, которую он выпил за это время, но легче не становилось. Усиливалось лишь помутнение рассудка, но это не спасало – Летову было невыносимо плохо, его колотило от ужаса и боли, боль, боль и еще раз боль окутывала его, отравляла нутро и изорванную марлю души. И не было от нее спасения.
«Есть! Оно есть, ты просто отказываешься им воспользоваться!» – кричал воспаленный разум, призывая убить.
Летов отвечал лишь очередным глотком водки.
Появилось это ужасающее чувство, чувство которое Летов ненавидел и, как и любой человек, который еще сохранял какие-то черты разума, пытался с ним бороться; чувство облегчения от убийства появилось аж в 42-м году. Потом оно появлялось еще пару раз во время войны, но, особенно в 45-м, когда он видел много трупов погибших гражданских – мертвые солдаты Летову были настолько привычны, что его воспаленный мозг воспринимал их как обычную рутину.
В лагере оно как-то поутихло, но совет Старика Летов запомнил навсегда. Однако уже в конце 48-го года у Летова случился первый приступ галлюцинаций: это было страшно. Он лежал на своей верхней койке в холодном поту, трясся, не издавая ни звука, а стекляные помутненные глаза таращались в гнилой потолок лагерного барака. Он видел, как убитые им австрийцы неслись за ним по какому-то пылающему полю и пытались убить разного рода предметами быта: от ножа до топора. Летов убегал от них, а потом запинался, падал и получал кучу ударов металла по спине и затылку. И вот в этой галлюцинации Летов, после очередного удара топором, вскочил, набросился на отца семейства, повалил его на землю и разодрал ему глотку зубами, обливая себя кровью. И Летову запомнилось это странное чувство облегчения во время приступа первых галлюцинаций – весь следующий день он с трудом двигал пилой, не имея никаких сил и постоянно борол в себе осознание того, что убийство способно сделать ему легче. Но эта мысль приходила к нему все чаще – раз в месяц, в две недели, раз в неделю, в некоторые периоды даже каждый день. И все труднее было бороться с ней, но там, на зоне, был способ – изматывать себя до предела, специально пилить в неудобной позе, чтобы жутко болела поясница и руки, чтобы не было сил даже идти до лагеря. Уголовники смеялись над ним, мол, на кой черт так выматываться, но Летов знал – это единственный способ спасти окружающих.
На свободе же помогала водка, но ее чудодейственное спасение ослабевало с каждым мигом.
…Всем стало ясно, что пора предпринимать кардинальные меры. Летов предложил заняться самым вероятным способом поимки убийцы: обходу жителей северного сектора, а Горенштейн за пять минут отметил на карте границы сектора, по которым и нужно было работать. Было решено весь оперативный состав задействовать на проверку прописанных на нужных улицах, а всех постовых и прибывших на помощь солдат бросить на обход жильцов нужного сектора с целью поиска убийцы и предъявления его фоторобота. Нужно было размножить рисунок убийцы, раздать его солдатам и патрульным, а в единственный выходной день – воскресенье пустить по всем домам. На случай задержания нужно было всегда иметь при себе оружие и веревку для связывания рук. Короче говоря, необходимо было мобилизовать всех, кого только можно: от центральной фотолаборатории МГБ до воинских частей.
Однако на этот раз в дело вмешался случай. И случай довольно удачный.
Приехав в отделение, Летов неожиданно для себя выяснил, что протокол осмотра места происшествия находится у Скрябина на руках, а тот в воскресенье отдыхает. Ну, делать было нечего: Летов оставил Горенштейна и поплелся к Скрябину. Жил он почти в центре района: близ толкучки, в минуте ходьбы. Он часто хвалил судьбу за такое расположение своего дома: больной матери было недалеко идти за продуктами и на толкучку, и продмаг рядом. Вышла, прошла пару метров, купила картошки, и к часам восьми вечера, когда любимый сын придет из отделения, уже и ужин готов. Домик их был небольшой, сложенный из досок, но, опять же, разделенный стеной на две отдельных квартирки. Мать Скрябина обожала молодого ефрейтора и даже несмотря на сильный ревматизм, обхаживала со всех сторон, ведь это был единственный оставшийся в живых ее сын: оба брата Скрябина погибли в 41-ом – один в танке сгорел, а второй в плену сгинул. Мать до самого 46-го года верила, что второй ее сын жив, в плену выжил… но из плена он так и не вернулся, а, следственно, либо в Германии остался, либо умер. Однако, как однажды сказала сама мать, пусть уж он лучше умрет, чем на «немчуру пойдет служить и Родину променяет».
В итоге Летов добрался до дома Скрябина, дверь в который была либо новенькая, либо очень хорошо сохранившаяся. Открыл ее сам Скрябин: при виде Летова он сразу вытянулся, провел его в дом и быстро напялил поверх блескающей чистотой нательной рубахи китель.
Мама его сидела за столом и вязала, пока не бросила пряжу, увидев гостя, и не налила «токмо-токмо всогревшегося чаечку» из старого чайника, заставив Летова сесть его попить. Сам следак не хотел, но, увидев просящую физиономию молодого Скрябина, таки скинул свое пальто и уселся за стол.
–Эх, вот может хоть вы поймете уж меня – начала свою заунывную песню мать Скрябина по имени Матрена Матвеешна – вот сынок мой молодой весь, ересь всякую почитывает, и мне голову забивает. Пошел бы он лучше в инженера, в село может, чем в милицию эту. Я вот понимаю вы, статный такой человечище, как вот советники в имперскые времена, а он то что, деревенскый, как и я. Хорошо хоть в войну не повоевал, а то и его бы схоронила. А то и не наншла бы вовсе.
-Ну, Матрена Матвеешна, не всем же в село. Врагов народа тоже надо ловить.
-Надобно сынок, надобно. Я все понимаю: другие времена, другие песни. Но не принимает мое сердце то, что сынок мой постоянно под опасностью… не на фронте, так тут пристрелят.
-Да не пристрелят. Он скорее на заводе помрет, чем тут.
-А от чего вы так думаете?
-Сам почти 20 лет в милиции. И жив, как видите – на лице Летов проступила прискорбная ухмылка, порожденная мыслью о том, что живым назвать его трудновато.
Не понятно сколько бы продолжалась эта беседа, если бы в комнату не ворвалась соседка Скрябина и не позвала его к телефону. Ни сказав ни слова, он прокричал: «Товарищ Летов, он на толкучке, надо бежать!», после чего оба следака, не попрощавшись с ошалевшей бабушкой, рванули на улицу, надевая на себя верхнюю одежду.
Звонили из отделения, куда только-только набрали «Братья Олежкины», являющиеся лейтенантами МГБ Броскиным и Ющенко. На шестой день наблюдения за Долгановой, примерно в 12:30, они ужаснулись и обрадовались одновременно: к бабушке пришел мужчина с полной авоськой книг, который точно подходил под описание.
«Здрасьте, я вам книги продать снова. Давайте по той же цене» – сквозь какой-то туман пробормотал загадочный мужчина в черной «Москвичке» с бурыми пятнами.
Долганова вся аж затряслась от ужаса. Ее красное от мороза лицо испускало страх, глаза расширилсь, но она держалась из последних сил, пытаясь этот страх скрыть. Протянув мужчине скомканные купюры, она взяла авоську и аккуратно бросила ее рядом со своим ящиком. Павлюшин же положил банкноты в карман, и не попрощавшись пошел прочь. Он сразу почуял что-то неладное: уж слишком сильно испугалась эта бабка, значит, либо на него уже вышли, либо она поняла, что эти капли на пальто от крови.
Броскин моментально набрал номер отделения и сказал одну фразу: «Я с толкучки, объект объявился, приезжайте, начинаю преследование».
…Вокруг ничего не было: Летов бежал, балансируя руками и чувствуя своей грудью ледяной ветер и редкие, словно пробуждения рассудка, снежинки. Люди с удивлением и ужасом смотрели на несущегося по снегу милиционера и бегущего за ним мужика в черном пальто.
Меньше чем через минуту они выбежали к толкучке, рванув мимо орущих и «пиарящих» свой товар продавцов. Люди, которых толкали бегущие, уж хотели начать материться, но, видя человека в милицейской шинели, сразу останавливали себя.
Тем временем оба агента шли по пятам за Павлюшиным. Он уже на толкучке почуял что-то неладное: Долганова уж слишком сильно его испугалась, а теперь за ним и вовсе шли двое мужчин, разрезая тонкий поток людей, идущих в свой единственный выходной на главное место торговли в Первомайке.
Вот Павлюшин свернул с улицы бараков на улицу, которая полностью состояла из новехоньких каменных домов, выстроенных уже после войны. Деревянные двери подъездов, выкрашенные в бордовый свет, смотрелись на фоне желтоватых стен и белого снега очень выделяющееся, в снегу на дороге уже были проезжены колеи от машин, а солнце пыталось согреть этот и без того светлый уголок рабочего района сквозь серую призму, но его лучи оказывались бессильны пред прочным слоем серости и пред силой поздней осени.
Павлюшин быстро открыл дверь подъезда, встав между входной и внутренней дверью. В его руке уже блеснул топор, которым он был готов зарубить преследовавших.
Агенты же вышли за угол дома тогда, когда Павлюшин был уже внутри – просто не успели заметить в каком именно подъезде скрылся убийца. Взведя курки пистолетов, Броскин зашел в первый подъезд, а Ющенко во второй.
Пистолет на вытянутой руке был первым, что увидел Павлюшин. Броскин оглянулся и никого не увидел: убийца спрятался за дверью. Тогда агент пошел дальше и, перешагнув порог внутренней двери, уже почти наступил на грязные плитки лестничкой клетки, но в этот момент получил удар топором по затылку. Молодой агент был очень испуган и просто не успел мобилизоваться для полной осторожности, допустив смертельную оплошность: не заглянул за дверь.
Павлюшин положил в карман пальто запасную обойму, топор во внутренний карман пальто, а сам схватил пистолет и рванул к первой двери.
… Запыхавшийся Летов, согнувшися в какую-то букву «Г» дабы хоть как-то отдышаться, спросил у Долгановой куда направился убийца и рванул по Физкультурной улице к каменным трехэтажкам. К его удаче, как раз в тот момент, когда Скрябин перебегал дорогу около первого дома, из подъезда вышел Ющенко. Летов со Скрябиным рванули к нему, взвели курки пистолетов, и друг за другом ворвались в соседний подъезд. Первым, что они увидели был труп Броскина, а следом полыхнула вспышка во мраке подъезда, и пуля влетела в деревянную дверь рядом с плечом Скрябина.
Павлюшин пальнул в сторону милиции, выломал дверь и ворвался в ближайшую квартиру. Повалив на пол ветхий шифоньер, стоявший у двери, он пустил пулю в испуганную женщину, которая только вскочила с кровати, а затем выпрыгнул в окно первого этажа, выломав своим телом стекло.
На этот раз он оказался позади дома, где уже были ветхие частные домики. Перемахнув через забор, он забежал за небольшую избенку, пугаясь каждому выстрелу, и рванул по узенькой улице мимо бараков в сторону железной дороги.
Все трое агентов понеслись за ним. Ющенко был как и всегда спокоен: два года работы в СМЕРШ сделали его железной машиной, готовой почти ко всему и не боящейся никого. Следом за ним бежал Скрябин: его молодое лицо было переполнено ужасом, ноги чуть-чуть сгибались, а слетающие с плеча кусочки дерева только напоминали о недавней близости смерти. А самым последним по снегу плелся Летов: лицо его было, как и обычно, стеклянным, вид потерянным, а руки двигались в такт заплетающимся ногам – прежняя способность быстро бегать уже иссякла практически полностью. Сейчас он всеми силами держался: если б не погоня и его частичное умение подавлять близящиеся припадки в важный момент, он бы уже валялся в судорогах, ведь выстрелы и очередной труп ох как будоражили тот отдел мозга, который ответственнен за генерацию воспоминаний, а, значит, и припадков.
Вскоре Павлюшин уже поднимался по железной лестнице к рельсам на насыпи. Ющенко пустил в его сторону пару пуль, но юркий маньяк прокатился лежа по шпалам, а потом рванул по ним вперед.
«Парни, идите наверх, я пойду по низу, если он будет спускаться!» – прокричал Летов, и, прибавив скорости, рванул по заснеженной дороге близ кустов и крутой насыпи.
Ющенко со Скрябиным рванули наверх. Убийца же их заметил, упал на живот и стал без остановки палить по несчастной лестнице. Пули разрезали воздух, прорывали тонкий щит страха двух милиционеров, изредка врезались в прутья, рикошетя от них, разбрызгивая вокруг искры и издавая жуткий звук.
Вскоре Ющенко выплюнул изо рта кровь и упал на Скрябина, повалив его на ступени. Под градом пуль они покатились вниз, оставляя за собой кровавый след, а Скрябин еще и не переставал кричать.
Как только эта «куча» скатилась вниз, испуганный и уже мало что понимающий Скрябин скинул с себя убитого Ющенко и рванул наверх. Летов уже думал пойти на помощь, но, увидев, что Скрябин выжил, побежал понизу.
Молодой ефрейтор вскочил на деревянные шпалы, упал на колено и начал пускать пули в сторону бегущего Павлюшина. Сейчас ефрейтор мобилизовал все свои умения: он откинул в сторону страх и делал все на максимальной высоте.
Вот Павлюшин вскрикнул, в воздух поднялся небольшой фонтан крови, и громоздкий маньяк упал на каменную насыпь. Скрябин чуть не вскрикнул от счастья: кажись, он завалил убийцу.
Вскоре он был уже рядом с лежащим душегубом. На камнях рядом с ним виднелись небольшие лужицы крови, само тело не дышало, в воздух не поднимался пар. Скрябин медленно подходил к трупу убийцы: пистолет немножко трясся в его руках, ствол косился влево-вправо, но молодой милиционер все равно шел вперед.
Вот он стоял вплотную к Павлюшину. Пистолет не опускал, но уже потянулся за ремнем, дабы связать портупеей руки душегубу: вдруг очухается еще.
Вдруг Павлюшин резко «ожил», рванул ногами и повалил на рельсы Скрябина, зачем-то приблизившегося вплотную к телу убийцы.