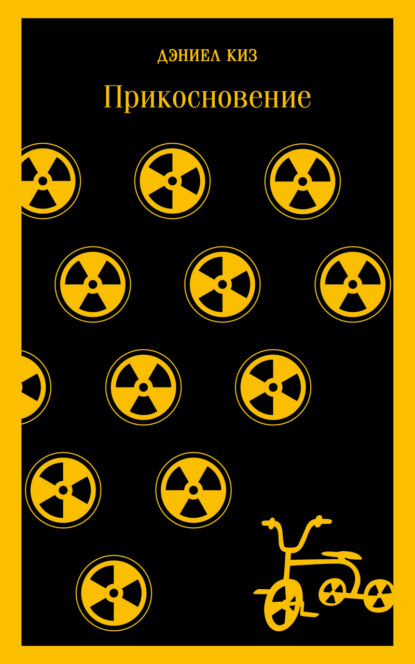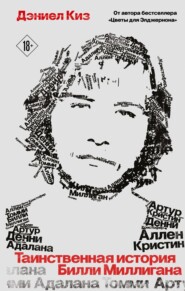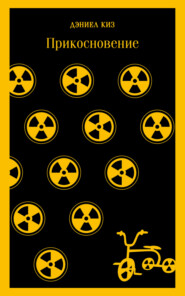По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прикосновение
Автор
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все, что нужно было сделать нашему молодцу, так это вскрыть капсулу по четко обозначенной линии, извлечь гранулы и переложить их в хранилище с другой стороны – в наш маленький «горячий банк», как мы его называем. Раз плюнуть, верно? Итак, стоим мы, значит, рядышком и наблюдаем, как он шурует ведомыми руками в горячем стержневом ящике. Дело нехитрое. У человека пара манипуляторов, и с ними он может забраться очень даже далеко; но в голове у него расстояния увеличиваются, и забраться он может вообще дальше некуда. Мимоходом я объясняю новичку, как нужно вскрывать капсулу, – это все равно что родоразрешение путем кесарева сечения (только нам каждый раз приходится иметь дело с тройней).
Итак, мы следим, как он опускает прецизионный[16 - Прецизионный – имеющий повышенную степень точности; высокоточный.] вращающийся резак, и потом – об этом я уже докладывал человеку из Службы радиационной безопасности – я своими глазами видел, как тот встал точно по линии. Голову дам на отсечение, так что грешить на парня я бы не стал. Одна из гранул, должно быть, оказалась дефектная, а это уже недоглядели в Радиационном контроле – конторе, которая снабжает нас изотопами. Так вот, лезвие врезается в капсулу, наполнитель из алюминиевого порошка вместе с тремя гранулами высыпается наружу – и тут новичок как заорет: «Датчик Джордона!» И стрелка, будь я проклят, отклонилась аж до пятисотой отметки. Малый за панелью управления застыл как вкопанный. «Что же делать?» – кричит. А я ему в ответ: «Нет времени учить тебя уму разуму», – тут же выхватываю у него эти самые ведомые руки и начинаю быстренько перетаскивать гранулы в хранилище. Сперва одну, потом другую, но тут новенький вдруг снова как заорет… Я глядь – сверху замигала красная аварийная сигнальная лампочка регистратора уровня радиоактивности воздуха. А это значит, что порошок просыпался через первую перегородку в нашу траншею.
– Боже мой! – проговорил Барни. – А ты что?
– Я кричу им, чтоб рвали когти за защитную перегородку и сразу под душ, а сам думаю – уж пара-то секунд у меня точно есть, так что спрячу-ка подальше эти самые гранулы. Говорю тебе, Барни, не очень-то приятное ощущение, когда эта высокорадиоактивная дрянь проникает через перегородку, а ты ее не видишь и не чувствуешь. Я спрятал остальные гранулы, пулей взлетел по лестнице и спустился с другой стороны перегородки, спрыгнув с пятой или шестой перекладины. Сорвал с лица респиратор, стянул защитный комбинезон и в чем мать родила мигом под душ к тем двоим бедолагам… Мылся и чистился, как никогда в жизни, – шкуру чуть не до дыр стер. Мне казалось, что меня всего облепило радиоактивной пылью. Фу ты, черт! Никогда не забуду эту картину – как стрелку зашкаливает. Вся лаборатория оказалась заражена этим высокорадиоактивным дерьмом! А того кретина из Службы безопасности, представь себе, заботило только, сможем ли мы сами все там очистить, чтоб не вызывать Радиационный контроль. Как же я на него тогда разозлился! Хотя ему, понятно, хотелось избежать паники, и винить его за это грех. Да уж, черт возьми, мы управились своими силами, и большой дозы никто не получил. Так что сам понимаешь, ему пристало больше беспокоиться за нас.
– Откуда ты знаешь, какую дозу получил, если радиацию не видно?
– А наши плоские пленочные дозиметры на что? Потом, при мне всегда мой карандашный датчик. Да и врач осмотрел нас в изоляторе с ног до головы – все проверил. Комбинезоны с респираторами снижают степень заражения, так что никто ничего не подцепил. Единственное, что оставалось сделать другим, так это очистить все, что мы вынесли из «горячей» лаборатории. А это дело, черт возьми, самое что ни на есть обычное. У нас такое проделывается каждый божий день.
– Значит, не было никакой нужды вызывать этот ваш, как его?..
– Радиационный контроль? Из-за такой пустячной утечки – нет. Они нужны, если утечка выходит из-под контроля, когда взрывается реактор или когда радиация распространяется за пределы лаборатории и может заразить целый город. А из-за такой ерунды – зачем? Слава богу, мы удержали ее в стенах «горячей» лаборатории. Черт, через час после аварии тот малый из Службы радиационной безопасности все там облазил, измерил каждый дюйм в предохранительной камере, помещениях для дезактивации, где мы полоскались под душем… Даже в моей каморке рядом с лабораторией все прошуровал. К тому же они собирались потом дезактивировать всю зону целиком – для верности. И скажу тебе по чести, Барни, ее пришлось закрыть.
Барни вышел из машины у здания Отдела художественного конструирования с тревожной мыслью, что, как и говорила Карен, все их знания и меры безопасности, равно как планы и меры предосторожности, – все это может пойти прахом совершенно случайно, стоит только оказаться в ненужное время в ненужном месте, поставив под угрозу даже собственную жизнь.
И самое печальное было то, что опасность всегда таилась рядом, а он ни о чем таком и не думал.
Июль
1
Через два дня после пикника на заднем дворе в честь Четвертого июля[17 - День независимости (с 4 июля 1776 года) – национальный праздник США.] Барни понял, что съел что-то не то, потому как его постоянно мутило. Уже второе утро кряду он просыпался с головной болью и сыпью, явно разраставшейся по всей правой руке. Он собрался было к врачу, но потом решил посмотреть – может, через день полегчает. Он тихонько оделся, чтобы не разбудить Карен, и спустился вниз приготовить себе завтрак. Кухня вся сверкала чистотой, посуда большей частью была вымыта. Карен изо всех сил старалась стать другой.
Каждый раз, когда он собирался сказать ей то, что хотел, ему неизменно что-то мешало. Сперва похороны его деда и очередная поездка к предкам, потом ее репетиции, а теперь еще вот это. Последние несколько недель она как будто догадывалась о его намерениях и старалась измениться. Все стало проще, когда он забросил «Венеру». После похорон он так ни разу к ней и не спустился.
Он смазал покрасневшую руку целебной мазью, обвязал бинтом, осторожно просунул ее в рукав сорочки и совсем забыл думать про нее, когда полностью оделся и вышел на улицу, где его должен был подобрать Прагер. Когда они тронулись, Барни заметил, что старик чем-то сильно озабочен.
– Что-то не так?
Прагер покачал головой, но тут Барни обратил внимание на его руки, державшие руль.
– Обжегся?
– Начали опухать пару дней назад, – ответил Прагер.
– А выглядит как сильный ожог.
Барни пригляделся к рукам Прагера, слишком изящным для его мелкой, коренастой фигуры, – с длинными костлявыми пальцами, на месте которых, казалось бы, должны были торчать какие-нибудь сардельки. На костяшках выступили волдыри.
– Может, аллергия на что-нибудь, – сказал Прагер. – Надо будет сходить к врачу.
– Странно, – заметил Барни, – а у меня на руке появилась сыпь. Чешется – спасу нет. Я тоже думал показаться врачу.
Прагер насупился.
– Когда ты это заметил первый раз?
– Несколько дней назад. Думал, обжегся, и не обратил внимания. А потом решил, что, наверное, съел чего-нибудь на пикнике.
Прагер устало кивнул и сжал руль так, словно хотел вложить в него всю свою силу, чтобы ехать ровнее.
– Ты в порядке?
– Да, только слегка подташнивает. Так, на работу я сегодня не пойду. Высажу тебя у Центра, а сам двину к врачу. И расскажу тебе сразу, как только узнаю, что со мной. Если это от чего-нибудь такого, что мы с тобой слопали в нашей столовке, подадим на них в суд, и все дела.
Он слабо улыбнулся, и Барни проводил его взглядом.
Барни мутило весь день, но он не обращал на это внимания. И только ближе к вечеру, когда дела с сыпью стали только хуже, он вспомнил, что Прагер отправился к врачу, а стало быть, теперь он, наверное, знает, что с ним стряслось. В семь тридцать он позвонил Прагеру домой, но кто-то, представившийся Элом Бендиксом, сказал, что меньше чем час назад Прагера забрали в элджинскую Мемориальную больницу.
– А что с ним?
– Извините, но мне рекомендовали не разглашать информацию ни газетчикам, ни кому бы то ни было.
– Я не газетчик. Что, черт возьми, происходит? Он собирался мне позвонить по возвращении от врача. У меня все то же…
Но человек на том конце провода повесил трубку, сказав напоследок:
– Послушайте, у нас тут дел невпроворот. Позвоните в больницу.
– Что за черт! – вскричал Барни при виде Карен, которая подошла к концу разговора. – У него такие же ожоги, как у меня.
– Какие еще ожоги?
– У него на руках, с тыльной стороны, большие неровные красные пятна, и пальцы распухли. У меня на руке тоже высыпала сыпь… и чешется мочи нет. Сначала я подумал – ожог, но не помню, чтоб обжигался.
Он заметил, что она как-то странно взглянула на руку, которую он оголил, закатав рукав, чтобы показать. Рука выглядела еще хуже – и теперь походила на обсыпанные волдырями руки Прагера.
– Не знала, что у тебя тоже, – испуганно прошептала она. – Посмотри-ка сюда. – Она распахнула блузку и спустила левую лямку бюстгальтера, показывая большие неровные красные пятна у себя на груди. – И сюда… – Она задрала юбку, обнажая точно такие же пятна на своем правом бедре.
– Когда они у тебя появились?
Она воззрилась на свою покрытую сыпью грудь так, будто на ней притаилась змея.
– Не помню. Несколько дней назад. Сперва высыпали небольшие прыщики, и мне показалось – это реакция на гормоны, которые я начала принимать с прошлой недели. А вчера увидела то же самое на правом бедре и позвонила доктору Лерою, – он сказал, это может быть побочный эффект, и велел прекратить их принимать. Но, Барни, у меня с пятнами дела только хуже.
Они посмотрели друг на друга, и тут она проговорила то, о чем он уже подумал сам.
– Звони в больницу и узнай, что там с ним.
Медсестра сообщила только, что Макс Прагер чувствует себя хорошо, но разговаривать по телефону и принимать посетителей ему не разрешается. Тогда Барни настойчиво попросил, чтобы она соединила его с кем-нибудь из врачей. Когда врач наконец взял трубку, Барни сказал:
– Послушайте, я докучаю вам не просто так. У моей жены и у меня такие же высыпания, как у Прагера на руках.
– Мистер Прагер бывал у вас дома последние несколько недель?
– Нет, он никогда не бывал у нас, но…