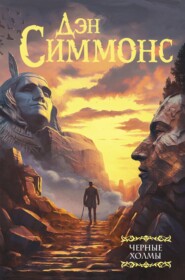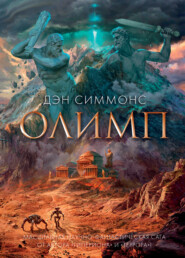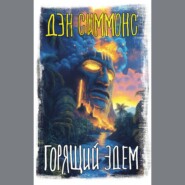По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Друд, или Человек в черном
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, Диккенс поступил самым естественным образом. Он поставил на роль хозяйки дома, надзирающей за детьми, принимающей гостей на званых вечерах и обедах, ведающей хозяйственными делами и отдающей распоряжения повару и слугам, незамужнюю сестру Кэтрин, Джорджину.
Когда поползли неизбежные слухи – касающиеся больше Джорджины, нежели Эллен Тернан, которая, образно выражаясь, отступила с освещенной авансцены в тень, – Диккенс вызвал в Тэвисток-хаус доктора и велел обследовать свою свояченицу, а затем обнародовать отчет о результатах осмотра, сообщающий всем и каждому, что мисс Джорджина Хогарт является virgo intacta.
На том, полагал Чарльз Диккенс, дело и кончится.
Позже его самая младшая дочь сказала мне (или, во всяком случае, при мне): «Отец тогда словно повредился рассудком. История с Эллен выявила в нем все худшие черты, все постыднейшие слабости. Ему было наплевать на всех нас. Горе и страдания нашей семьи были безмерны».
Если Диккенс и знал о душевных страданиях жены и детей или придавал им значение, коли знал, то он этого никак не показывал. Ни мне, ни своим новым и более близким друзьям.
Он оказался прав в своем предположении, что неприятный момент минует, не повредив ему в глазах читателей. Они и вправду простили Диккенса, если вообще знали о его семейных неурядицах. В конце концов, он был английским певцом домашнего очага и величайшим писателем в мире. Он заслуживал снисхождения.
Все наши литературные собратья и друзья мужского пола тоже простили и забыли (за исключением одного только Теккерея, но это отдельная история), и надо признать, иные из нас в глубине души или втихомолку восхищались Чарльзом Диккенсом, избавившимся от семейных обязательств перед столь непривлекательным и тяжеловесным камнем на шее. Этот разрыв отношений давал проблеск надежды самым разнесчастным женатым мужчинам и вселял в нас, холостяков, приятную мысль, что при желании все-таки можно вернуться из неизведанной страны супружества – безвестного края, откуда якобы нет возврата.
Но прошу помнить, дорогой читатель, что речь идет о человеке, который незадолго до своего знакомства с Эллен Тернан в одном из театров, посещенных нами в поисках «нежных фиалочек» (так мы называли хорошеньких юных актрис, доставлявших нам обоим глубокое эстетическое удовлетворение), сказал мне: «Уилки, если вы знаете, как провести вечер особенно бурно, предлагайте немедленно. Я готов на любые бесчинства. На одну ночь я отброшу всякое благоразумие! Если придумаете что-нибудь эдакое, в стиле сибаритствующего Рима эпохи предельного сластолюбия и изнеженности, можете рассчитывать на меня».
И в делах подобного рода он, в свою очередь, мог рассчитывать на меня.
* * *
Я хорошо помню день 9 июня 1865 года, когда, собственно, и началась цепь невероятных событий.
Диккенс объяснил друзьям, что он уже с середины зимы страдает переутомлением и мучается болями в «обмороженной ноге», и на неделю прервал работу над завершением романа «Наш общий друг», чтобы отдохнуть в Париже. Я не знаю, поехали ли с ним Эллен Тернан и ее мать. Но знаю, что в Лондон они возвращались вместе.
Некая дама по имени миссис Уильям Клара Питт-Бирн, с которой я никогда не встречался и не жаждал познакомиться (добрая приятельница Чарльза Уотертона – натуралиста и путешественника, писавшего о своих рискованных приключениях в разных странах мира и погибшего в результате нелепого падения с лестницы в своем поместье Уолтон-Холл всего за одиннадцать дней до Стейплхерстской катастрофы; впоследствии говорили, будто призрак Уотертона ночами бродит по поместью в облике огромной серой цапли), – так вот, эта дама имела обыкновение публиковать в «Таймс» разные злостные сплетни. Нижеприведенная язвительная заметка с сообщением, что девятого июня нашего друга видели на пароме, идущем из Булони в Фолкстон, появилась в печати через несколько месяцев после упомянутой железнодорожной катастрофы.
Сей господин путешествовал в обществе молодой особы, не приходившейся ему ни женой, ни свояченицей, но тем не менее расхаживал по палубе с видом человека, преисполненного сознанием собственной значимости. В надменном выражении его лица, в каждом его величавом жесте и движении читалось: «Смотрите на меня, пользуйтесь случаем. Я гениальный писатель, я единственный и неповторимый Чарльз Диккенс, каковой факт оправдывает любые мои поступки.
Миссис Бирн известна главным образом как автор книги «Фламандские интерьеры», вышедшей в свет несколько лет назад. По моему скромному мнению, ей следовало бы приберечь свое ядовитое перо для писанины о диванах и обоях. Для живописания человеческих существ сей даме явно недостает таланта.
В Фолкстоне Диккенс, Эллен и миссис Тернан сели на курьерский до Лондона, отправлявшийся в два тридцать восемь пополудни. На подъезде к Стейплхерсту они находились одни в вагоне первого класса, каких в составе насчитывалось семь штук.
Когда они проезжали Хедкорн в одиннадцать минут четвертого, машинист гнал поезд полным ходом, со скоростью добрых пятьдесят миль в час. Состав приближался к железнодорожному виадуку близ Стейплхерста, хотя слово «виадук», коим обозначается данное сооружение в официальном железнодорожном справочнике, представляется слишком громким для деревянного моста на перекрестных опорах, соединявшего берега мелкой речушки Белт.
На том участке пути производились текущие ремонтные работы по замене старых мостовых брусьев. Позже в ходе расследования выяснилось, что десятник сверился с недействительным расписанием и в ближайшие два часа не ждал фолкстонского поезда. (Похоже, не только нас, путешественников, сбивают с толку расписания Британских железных дорог, изобилующие сносками и скобками с бесконечными дополнениями и изменениями в связи с праздничными и выходными днями, периодами прилива и пр.)
Английский закон и железнодорожные правила предписывали выставлять сигнальщика за тысячу ярдов от места подобных работ – к моменту появления фолкстонского поезда две рельсины на мосту уже были сняты и уложены вдоль полотна, – но по непонятной причине человек с красным флажком находился всего в трехстах пятидесяти ярдах от разобранного участка пути. Таким образом, у курьерского, шедшего на высокой скорости, не оставалось ни малейшего шанса остановиться вовремя.
При виде запоздало взметнувшегося красного флажка (леденящее душу зрелище, надо полагать), при виде бреши в железнодорожном полотне и мостовом покрытии впереди машинист сделал все возможное. Вероятно, в ваше время, дорогие читатели, все поезда снабжены тормозами, которыми управляет непосредственно машинист. В 1865 году дело обстояло иначе. Каждый вагон надлежало тормозить отдельно, причем только по сигналу машиниста. Последний дал отчаянный гудок, призывая кондукторов спешно привести в действие тормозные механизмы. Но было уже слишком поздно.
Согласно отчету следственной комиссии, состав все еще двигался со скоростью почти тридцать миль в час, когда достиг разобранного участка колеи. Невероятно, но локомотив перелетел через сорокадвухфутовую брешь и соскочил с рельсов на другой ее стороне. Все вагоны первого класса, кроме одного, свалились с моста и разбились вдребезги на дне мелкой заболоченной речки.
В единственном уцелевшем первоклассном вагоне находились Диккенс, его любовница и ее мать.
Кондукторский вагон, следовавший сразу за локомотивом, отбросило на встречную колею вместе с прицепленным к нему вагоном второго класса. Вагон Диккенса, третий по счету, частично вынесло за край моста, и он не сорвался вниз единственно благодаря сцепке с предыдущим вагоном. На рельсах устоял только самый хвост состава. Остальные шесть первоклассных вагонов со страшным грохотом рухнули в заболоченное речное русло и в большинстве своем разбились в щепы.
Впоследствии Диккенс не раз рассказывал о пережитых ужасных моментах в письмах к знакомым, но всегда осмотрительно избегал называть имена двух своих попутчиц, чьи личности раскрыл лишь в нескольких посланиях к самым близким друзьям. Уверен, я единственный, кому он поведал всю историю без умолчаний.
«Вагон вдруг сошел с рельсов, – писал он в одной из наиболее обстоятельных эпистолярных версий случившегося, – и запрыгал по полотну, подобно корзине полусдутого воздушного шара, волочащейся по кочковатой земле. „Господи! Что это?!“ – вскричала пожилая дама (следует читать «миссис Тернан»), а ее молодая спутница (разумеется, речь идет об Эллен Тернан) пронзительно завизжала. Я подхватил их обеих… и сказал: „Единственное, что нам остается, – сохранять спокойствие. Ради бога, перестаньте кричать!“ Пожилая дама сразу же овладела собой: „Вы правы. Я буду держать себя в руках, даю вам слово“».
Вагон круто вздыбился и накренился влево. Чемоданы, картонки и прочие незакрепленные предметы посыпались с багажных полок. До конца жизни Чарльз Диккенс страдал от приступов головокружения, сопряженных с ощущением, будто «все вокруг, включая меня самого, резко накреняется влево и летит вниз».
Он продолжает повествование: «Я сказал женщинам: „Худшее уже позади. Опасность миновала. Пожалуйста, не двигайтесь, пока я не вылезу через окно“».
Затем Диккенс, все еще достаточно проворный и гибкий в свои пятьдесят три года, несмотря на «обмороженную ногу» (как человек, давно страдающий подагрой и вот уже много лет вынужденный принимать лауданум для облегчения болей, я мигом опознаю сей недуг по симптомам и почти уверен, что диккенсовское «обморожение» на самом деле являлось обычной подагрой), выбрался наружу, ловко перепрыгнул с подножки вагона на мостовое полотно и увидел двух кондукторов, в совершенном смятении бегавших взад-вперед.
Диккенс пишет, что он схватил одного из них за рукав и повелительно крикнул: «Послушайте! Остановитесь же наконец и посмотрите на меня! Вы меня узнаете?»
«Конечно, мистер Диккенс», – тотчас ответил кондуктор.
«В таком случае, уважаемый, – вскричал Диккенс почти радостно (в мелочном своем тщеславии упиваясь сознанием, что даже в такую минуту его узнали, как наверняка не преминула бы вставить Клара Питт-Бирн), – дайте поскорее ваш ключ от вагона и пошлите сюда одного из рабочих. Я хочу выпустить пассажиров».
Кондукторы, по словам Диккенса, поспешили выполнить распоряжение, рабочие перекинули две доски с края моста к висевшему в воздухе вагону, и отважный писатель благополучно вывел оттуда женщин, а потом бесстрашно вернулся обратно за своим цилиндром и фляжкой с бренди.
Здесь я прерву повествование нашего общего друга и скажу, что впоследствии, руководствуясь именами, перечисленными в официальном отчете следственной комиссии, я разыскал кондуктора, которого Диккенс якобы остановил и побудил к столь полезным действиям. У означенного кондуктора – некоего Лестера Смита – сохранились несколько иные воспоминания о тех минутах.
«Мы собирались спуститься вниз, чтобы оказать помощь раненым и умирающим, и тут к нам с Пэдди Билом подбегает этот хлыщ, что выбрался из повисшего на краю моста первоклассного вагона, бледный как смерть, с дико выпученными глазами, и орет дурным голосом: „Вы меня узнаете? Вы меня узнаете? Вы знаете, кто я такой?“ Честно говоря, я ответил: „Мне плевать, кто ты такой, приятель, – хоть сам принц Альберт. Отвали, не путайся под ногами“. Обычно я с джентльменами так не разговариваю, но тогда обстоятельства были необычные».
Во всяком случае, Диккенс действительно руководил действиями рабочих, вызволявших Эллен и миссис Тернан, он действительно вернулся обратно в вагон за цилиндром и фляжкой с бренди, он действительно зачерпнул в цилиндр воды, спустившись к реке по крутому откосу, и все очевидцы единодушно показывают, что он незамедлительно принялся извлекать из-под обломков тела погибших и оказывать помощь пострадавшим.
* * *
До самой своей смерти, наступившей через пять лет после Стейплхерстской катастрофы, Диккенс неизменно описывал все увиденное под мостом двумя словами – «просто невообразимо», а все услышанное там коротко характеризовал наречием «невразумительно». И это английский писатель, который, по всеобщему признанию, обладал самым богатым воображением после сэра Вальтера Скотта! Человек, сочинявший повести и романы по меньшей мере чрезвычайно вразумительные!
Возможно, «невообразимое» началось, когда он спускался к реке по крутому откосу. Внезапно рядом с ним появился высокий худой мужчина в тяжелом черном плаще, гораздо более уместном для вечернего похода в оперу, нежели для поездки в Лондон на дневном курьерском. Оба они держали цилиндр в левой руке, а правой цеплялись за кусты, чтобы не упасть. Позже Диккенс хриплым шепотом (он потерял голос после катастрофы) рассказал мне, что незнакомец, тощий как скелет и мертвенно-бледный, пристально смотрел на него густо затененными глазами, глубоко посаженными под высоким бледным лбом, переходящим в бледную лысину. По сторонам черепообразного лица торчали жидкие пряди сивых волос. Впечатление черепа усиливали слишком короткий нос («две черные щели на землистой физиономии, а не нормальной длины орган обоняния», по выражению Диккенса), редкие мелкие зубы, острые и неровные, и очень бледные – светлее самих зубов – десны.
Писатель заметил также, что на правой руке у мужчины не хватает двух пальцев, мизинца и безымянного, а на левой руке нет среднего. Диккенс обратил особое внимание на тот факт, что пальцы не ампутированы на уровне сустава, как часто делается в случае хирургического вмешательства при серьезных травмах, а грубо обрублены посреди третьей фаланги. «Культи, – сказал он мне впоследствии, – походили на огарки восковой свечи».
Диккенс и странный господин в черном плаще медленно спускались по крутому откосу, цепляясь за кусты и валуны.
– Я Чарльз Диккенс, – наконец выдохнул мой друг, впавший в изрядное замешательство.
– Знаю-с-с, – присвистывая сквозь мелкие зубы, промолвил незнакомец.
Диккенс смешался еще сильнее.
– Как ваше имя, сэр? – осведомился он, съезжая вместе со спутником вниз по каменистой осыпи.
– Друд, – последовал ответ.
Во всяком случае, Диккенсу так послышалось. Незнакомец говорил глухим голосом с легким чужеземным акцентом, и слово прозвучало скорее как «труп».
– Вы ехали на этом поезде в Лондон? – спросил Диккенс.
Они уже находились у самого подножья крутого откоса.
– В Лаймхаус-с-с, – с присвистом произнес долговязый субъект в черном плаще. – Уайтчепел. Рэтклифф-крос-с-с. Джин-лейн. Три-Фокс-с-сес-с-с. Корт. Бутчер-роу и Коммерш-ш-шиал-роуд. Минт и прочие трущ-щ-щобы.
Услышав сей странный перечень, Диккенс недоуменно взглянул на чудно?го господина – ведь поезд направлялся на вокзал в центре Лондона, а не в восточный район столицы, где находились упомянутые грязные улочки. Трущобами на жаргоне назывались беднейшие жилые кварталы города. Но откос уже кончился, и на берегу загадочный Друд, не промолвив более ни слова, поворотился прочь и скользнул в густую тень под железнодорожным мостом. Спустя несколько мгновений фигура в черном плаще растаяла в темноте.
Когда поползли неизбежные слухи – касающиеся больше Джорджины, нежели Эллен Тернан, которая, образно выражаясь, отступила с освещенной авансцены в тень, – Диккенс вызвал в Тэвисток-хаус доктора и велел обследовать свою свояченицу, а затем обнародовать отчет о результатах осмотра, сообщающий всем и каждому, что мисс Джорджина Хогарт является virgo intacta.
На том, полагал Чарльз Диккенс, дело и кончится.
Позже его самая младшая дочь сказала мне (или, во всяком случае, при мне): «Отец тогда словно повредился рассудком. История с Эллен выявила в нем все худшие черты, все постыднейшие слабости. Ему было наплевать на всех нас. Горе и страдания нашей семьи были безмерны».
Если Диккенс и знал о душевных страданиях жены и детей или придавал им значение, коли знал, то он этого никак не показывал. Ни мне, ни своим новым и более близким друзьям.
Он оказался прав в своем предположении, что неприятный момент минует, не повредив ему в глазах читателей. Они и вправду простили Диккенса, если вообще знали о его семейных неурядицах. В конце концов, он был английским певцом домашнего очага и величайшим писателем в мире. Он заслуживал снисхождения.
Все наши литературные собратья и друзья мужского пола тоже простили и забыли (за исключением одного только Теккерея, но это отдельная история), и надо признать, иные из нас в глубине души или втихомолку восхищались Чарльзом Диккенсом, избавившимся от семейных обязательств перед столь непривлекательным и тяжеловесным камнем на шее. Этот разрыв отношений давал проблеск надежды самым разнесчастным женатым мужчинам и вселял в нас, холостяков, приятную мысль, что при желании все-таки можно вернуться из неизведанной страны супружества – безвестного края, откуда якобы нет возврата.
Но прошу помнить, дорогой читатель, что речь идет о человеке, который незадолго до своего знакомства с Эллен Тернан в одном из театров, посещенных нами в поисках «нежных фиалочек» (так мы называли хорошеньких юных актрис, доставлявших нам обоим глубокое эстетическое удовлетворение), сказал мне: «Уилки, если вы знаете, как провести вечер особенно бурно, предлагайте немедленно. Я готов на любые бесчинства. На одну ночь я отброшу всякое благоразумие! Если придумаете что-нибудь эдакое, в стиле сибаритствующего Рима эпохи предельного сластолюбия и изнеженности, можете рассчитывать на меня».
И в делах подобного рода он, в свою очередь, мог рассчитывать на меня.
* * *
Я хорошо помню день 9 июня 1865 года, когда, собственно, и началась цепь невероятных событий.
Диккенс объяснил друзьям, что он уже с середины зимы страдает переутомлением и мучается болями в «обмороженной ноге», и на неделю прервал работу над завершением романа «Наш общий друг», чтобы отдохнуть в Париже. Я не знаю, поехали ли с ним Эллен Тернан и ее мать. Но знаю, что в Лондон они возвращались вместе.
Некая дама по имени миссис Уильям Клара Питт-Бирн, с которой я никогда не встречался и не жаждал познакомиться (добрая приятельница Чарльза Уотертона – натуралиста и путешественника, писавшего о своих рискованных приключениях в разных странах мира и погибшего в результате нелепого падения с лестницы в своем поместье Уолтон-Холл всего за одиннадцать дней до Стейплхерстской катастрофы; впоследствии говорили, будто призрак Уотертона ночами бродит по поместью в облике огромной серой цапли), – так вот, эта дама имела обыкновение публиковать в «Таймс» разные злостные сплетни. Нижеприведенная язвительная заметка с сообщением, что девятого июня нашего друга видели на пароме, идущем из Булони в Фолкстон, появилась в печати через несколько месяцев после упомянутой железнодорожной катастрофы.
Сей господин путешествовал в обществе молодой особы, не приходившейся ему ни женой, ни свояченицей, но тем не менее расхаживал по палубе с видом человека, преисполненного сознанием собственной значимости. В надменном выражении его лица, в каждом его величавом жесте и движении читалось: «Смотрите на меня, пользуйтесь случаем. Я гениальный писатель, я единственный и неповторимый Чарльз Диккенс, каковой факт оправдывает любые мои поступки.
Миссис Бирн известна главным образом как автор книги «Фламандские интерьеры», вышедшей в свет несколько лет назад. По моему скромному мнению, ей следовало бы приберечь свое ядовитое перо для писанины о диванах и обоях. Для живописания человеческих существ сей даме явно недостает таланта.
В Фолкстоне Диккенс, Эллен и миссис Тернан сели на курьерский до Лондона, отправлявшийся в два тридцать восемь пополудни. На подъезде к Стейплхерсту они находились одни в вагоне первого класса, каких в составе насчитывалось семь штук.
Когда они проезжали Хедкорн в одиннадцать минут четвертого, машинист гнал поезд полным ходом, со скоростью добрых пятьдесят миль в час. Состав приближался к железнодорожному виадуку близ Стейплхерста, хотя слово «виадук», коим обозначается данное сооружение в официальном железнодорожном справочнике, представляется слишком громким для деревянного моста на перекрестных опорах, соединявшего берега мелкой речушки Белт.
На том участке пути производились текущие ремонтные работы по замене старых мостовых брусьев. Позже в ходе расследования выяснилось, что десятник сверился с недействительным расписанием и в ближайшие два часа не ждал фолкстонского поезда. (Похоже, не только нас, путешественников, сбивают с толку расписания Британских железных дорог, изобилующие сносками и скобками с бесконечными дополнениями и изменениями в связи с праздничными и выходными днями, периодами прилива и пр.)
Английский закон и железнодорожные правила предписывали выставлять сигнальщика за тысячу ярдов от места подобных работ – к моменту появления фолкстонского поезда две рельсины на мосту уже были сняты и уложены вдоль полотна, – но по непонятной причине человек с красным флажком находился всего в трехстах пятидесяти ярдах от разобранного участка пути. Таким образом, у курьерского, шедшего на высокой скорости, не оставалось ни малейшего шанса остановиться вовремя.
При виде запоздало взметнувшегося красного флажка (леденящее душу зрелище, надо полагать), при виде бреши в железнодорожном полотне и мостовом покрытии впереди машинист сделал все возможное. Вероятно, в ваше время, дорогие читатели, все поезда снабжены тормозами, которыми управляет непосредственно машинист. В 1865 году дело обстояло иначе. Каждый вагон надлежало тормозить отдельно, причем только по сигналу машиниста. Последний дал отчаянный гудок, призывая кондукторов спешно привести в действие тормозные механизмы. Но было уже слишком поздно.
Согласно отчету следственной комиссии, состав все еще двигался со скоростью почти тридцать миль в час, когда достиг разобранного участка колеи. Невероятно, но локомотив перелетел через сорокадвухфутовую брешь и соскочил с рельсов на другой ее стороне. Все вагоны первого класса, кроме одного, свалились с моста и разбились вдребезги на дне мелкой заболоченной речки.
В единственном уцелевшем первоклассном вагоне находились Диккенс, его любовница и ее мать.
Кондукторский вагон, следовавший сразу за локомотивом, отбросило на встречную колею вместе с прицепленным к нему вагоном второго класса. Вагон Диккенса, третий по счету, частично вынесло за край моста, и он не сорвался вниз единственно благодаря сцепке с предыдущим вагоном. На рельсах устоял только самый хвост состава. Остальные шесть первоклассных вагонов со страшным грохотом рухнули в заболоченное речное русло и в большинстве своем разбились в щепы.
Впоследствии Диккенс не раз рассказывал о пережитых ужасных моментах в письмах к знакомым, но всегда осмотрительно избегал называть имена двух своих попутчиц, чьи личности раскрыл лишь в нескольких посланиях к самым близким друзьям. Уверен, я единственный, кому он поведал всю историю без умолчаний.
«Вагон вдруг сошел с рельсов, – писал он в одной из наиболее обстоятельных эпистолярных версий случившегося, – и запрыгал по полотну, подобно корзине полусдутого воздушного шара, волочащейся по кочковатой земле. „Господи! Что это?!“ – вскричала пожилая дама (следует читать «миссис Тернан»), а ее молодая спутница (разумеется, речь идет об Эллен Тернан) пронзительно завизжала. Я подхватил их обеих… и сказал: „Единственное, что нам остается, – сохранять спокойствие. Ради бога, перестаньте кричать!“ Пожилая дама сразу же овладела собой: „Вы правы. Я буду держать себя в руках, даю вам слово“».
Вагон круто вздыбился и накренился влево. Чемоданы, картонки и прочие незакрепленные предметы посыпались с багажных полок. До конца жизни Чарльз Диккенс страдал от приступов головокружения, сопряженных с ощущением, будто «все вокруг, включая меня самого, резко накреняется влево и летит вниз».
Он продолжает повествование: «Я сказал женщинам: „Худшее уже позади. Опасность миновала. Пожалуйста, не двигайтесь, пока я не вылезу через окно“».
Затем Диккенс, все еще достаточно проворный и гибкий в свои пятьдесят три года, несмотря на «обмороженную ногу» (как человек, давно страдающий подагрой и вот уже много лет вынужденный принимать лауданум для облегчения болей, я мигом опознаю сей недуг по симптомам и почти уверен, что диккенсовское «обморожение» на самом деле являлось обычной подагрой), выбрался наружу, ловко перепрыгнул с подножки вагона на мостовое полотно и увидел двух кондукторов, в совершенном смятении бегавших взад-вперед.
Диккенс пишет, что он схватил одного из них за рукав и повелительно крикнул: «Послушайте! Остановитесь же наконец и посмотрите на меня! Вы меня узнаете?»
«Конечно, мистер Диккенс», – тотчас ответил кондуктор.
«В таком случае, уважаемый, – вскричал Диккенс почти радостно (в мелочном своем тщеславии упиваясь сознанием, что даже в такую минуту его узнали, как наверняка не преминула бы вставить Клара Питт-Бирн), – дайте поскорее ваш ключ от вагона и пошлите сюда одного из рабочих. Я хочу выпустить пассажиров».
Кондукторы, по словам Диккенса, поспешили выполнить распоряжение, рабочие перекинули две доски с края моста к висевшему в воздухе вагону, и отважный писатель благополучно вывел оттуда женщин, а потом бесстрашно вернулся обратно за своим цилиндром и фляжкой с бренди.
Здесь я прерву повествование нашего общего друга и скажу, что впоследствии, руководствуясь именами, перечисленными в официальном отчете следственной комиссии, я разыскал кондуктора, которого Диккенс якобы остановил и побудил к столь полезным действиям. У означенного кондуктора – некоего Лестера Смита – сохранились несколько иные воспоминания о тех минутах.
«Мы собирались спуститься вниз, чтобы оказать помощь раненым и умирающим, и тут к нам с Пэдди Билом подбегает этот хлыщ, что выбрался из повисшего на краю моста первоклассного вагона, бледный как смерть, с дико выпученными глазами, и орет дурным голосом: „Вы меня узнаете? Вы меня узнаете? Вы знаете, кто я такой?“ Честно говоря, я ответил: „Мне плевать, кто ты такой, приятель, – хоть сам принц Альберт. Отвали, не путайся под ногами“. Обычно я с джентльменами так не разговариваю, но тогда обстоятельства были необычные».
Во всяком случае, Диккенс действительно руководил действиями рабочих, вызволявших Эллен и миссис Тернан, он действительно вернулся обратно в вагон за цилиндром и фляжкой с бренди, он действительно зачерпнул в цилиндр воды, спустившись к реке по крутому откосу, и все очевидцы единодушно показывают, что он незамедлительно принялся извлекать из-под обломков тела погибших и оказывать помощь пострадавшим.
* * *
До самой своей смерти, наступившей через пять лет после Стейплхерстской катастрофы, Диккенс неизменно описывал все увиденное под мостом двумя словами – «просто невообразимо», а все услышанное там коротко характеризовал наречием «невразумительно». И это английский писатель, который, по всеобщему признанию, обладал самым богатым воображением после сэра Вальтера Скотта! Человек, сочинявший повести и романы по меньшей мере чрезвычайно вразумительные!
Возможно, «невообразимое» началось, когда он спускался к реке по крутому откосу. Внезапно рядом с ним появился высокий худой мужчина в тяжелом черном плаще, гораздо более уместном для вечернего похода в оперу, нежели для поездки в Лондон на дневном курьерском. Оба они держали цилиндр в левой руке, а правой цеплялись за кусты, чтобы не упасть. Позже Диккенс хриплым шепотом (он потерял голос после катастрофы) рассказал мне, что незнакомец, тощий как скелет и мертвенно-бледный, пристально смотрел на него густо затененными глазами, глубоко посаженными под высоким бледным лбом, переходящим в бледную лысину. По сторонам черепообразного лица торчали жидкие пряди сивых волос. Впечатление черепа усиливали слишком короткий нос («две черные щели на землистой физиономии, а не нормальной длины орган обоняния», по выражению Диккенса), редкие мелкие зубы, острые и неровные, и очень бледные – светлее самих зубов – десны.
Писатель заметил также, что на правой руке у мужчины не хватает двух пальцев, мизинца и безымянного, а на левой руке нет среднего. Диккенс обратил особое внимание на тот факт, что пальцы не ампутированы на уровне сустава, как часто делается в случае хирургического вмешательства при серьезных травмах, а грубо обрублены посреди третьей фаланги. «Культи, – сказал он мне впоследствии, – походили на огарки восковой свечи».
Диккенс и странный господин в черном плаще медленно спускались по крутому откосу, цепляясь за кусты и валуны.
– Я Чарльз Диккенс, – наконец выдохнул мой друг, впавший в изрядное замешательство.
– Знаю-с-с, – присвистывая сквозь мелкие зубы, промолвил незнакомец.
Диккенс смешался еще сильнее.
– Как ваше имя, сэр? – осведомился он, съезжая вместе со спутником вниз по каменистой осыпи.
– Друд, – последовал ответ.
Во всяком случае, Диккенсу так послышалось. Незнакомец говорил глухим голосом с легким чужеземным акцентом, и слово прозвучало скорее как «труп».
– Вы ехали на этом поезде в Лондон? – спросил Диккенс.
Они уже находились у самого подножья крутого откоса.
– В Лаймхаус-с-с, – с присвистом произнес долговязый субъект в черном плаще. – Уайтчепел. Рэтклифф-крос-с-с. Джин-лейн. Три-Фокс-с-сес-с-с. Корт. Бутчер-роу и Коммерш-ш-шиал-роуд. Минт и прочие трущ-щ-щобы.
Услышав сей странный перечень, Диккенс недоуменно взглянул на чудно?го господина – ведь поезд направлялся на вокзал в центре Лондона, а не в восточный район столицы, где находились упомянутые грязные улочки. Трущобами на жаргоне назывались беднейшие жилые кварталы города. Но откос уже кончился, и на берегу загадочный Друд, не промолвив более ни слова, поворотился прочь и скользнул в густую тень под железнодорожным мостом. Спустя несколько мгновений фигура в черном плаще растаяла в темноте.