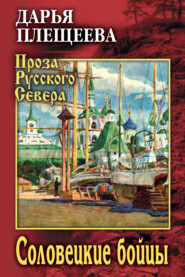По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Слепой секундант
Автор
Год написания книги
2013
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Та и появилась – в накинутой на плечи бархатной шубке, в белом шерстяном ажурном платке, повязанном чуть ли не по-монашески. На устах светилась счастливая улыбка. Еремей ей улыбнулся, как бы говоря: «Причитается с тебя, голубушка, привез тебе твоего сумасбродного жениха».
И тут громыхнул выстрел. Катенька ахнула, взмахнула руками и пропала. В доме закричали. Тимошка остолбенел, а Еремей, схватив барина в охапку, вместе с ним рухнул в возок с криком «Гони, дурак, гони!»
– Что это было? Кто стрелял? – спрашивал, барахтаясь, Андрей.
– Дурные люди, – отвечал дядька, как когда-то в детстве, объясняя питомцу несовершенство мира.
Когда возок выкатил на Невский, Еремей дал Тимошке знак остановиться. Невский проспект был местом безопасным – полно прохожих, в том числе и военных, если кто вздумает безобразничать – сразу скрутят.
– Еремей Павлович! Объясни, Христа ради, что творится! – сердито требовал Андрей.
– Сам не знаю… Тимошка, стой тут с возком, а я схожу узнаю, что за стрельба посреди Питера, – Еремей и сейчас понимал, что целились в Катеньку, но не хотел раньше времени огорчать питомца.
Дядька отлично изучил Андреев нрав. Желание Андрея посчитаться за погибшего друга Еремей уважал – но понимал, что не так-то это просто. Тут же был враг незримый, коварный и не имеющий ни малейшего понятия о чести. Еще не понимая, как выстрел по Катеньке мог быть связан с Гришиной дуэлью, Еремей сперва утащил питомца в безопасное место, ибо береженого – Бог бережет. Он не сразу подошел к Катенькиному дому, а сперва обошел его со стороны сада.
Опасности вроде не обнаружилось, и тогда Еремей побежал к дверям. Окна все еще были открыты, доносился невнятный шум. Еремей вошел, споткнулся об оставленное Устюшкой ведро, поднялся по лестнице и, идя на голоса, приоткрыл дверь в гостиную.
Домашние женщины на коленях стояли у лежавшей на полу Катеньки. Ее руки кто-то уже скрестил на груди, как положено покойнице. Одни плакали, другие кляли обленившуюся столичную полицию. Еремей понял, что за полицией уже послано.
Никто не заметил его, и он бесшумно спустился вниз. Выстрел по Катеньке мог быть сделан только из сада. Еремей понимал, что и полицейские будут искать следов убийцы в саду, поэтому шел все краем, краем, понемногу приближаясь к подходящему месту напротив окна. Это место он узнал по веткам, с которых оказался сбит снег. Человек, стрелявший в Катеньку, вероятно, сидел на дереве.
С одной стороны, это странно – этак ведь и неделю просидеть можно, ожидая, пока из-за угара в квартире будут отворены окна да пока хозяйка зачем-то выглянет. С другой стороны – уж не водилось ли среди Катенькиной прислуги подлеца, устроившего угар за малые деньги, навроде Селифашки? Катенька терпела его, потому что он был племянником ее надежной домоправительницы и казначейши Егорьевны. С третьей стороны – человек, затеявший убийство, наверняка заранее придумал способ подманить Катеньку к окну. Скорее всего, у него имелся сообщник.
Еремей внимательно рассмотрел следы у дерева. Те оказались глубиной в пол-аршина, и о величине сапог он судить не мог. Но он смог пойти по этим следам. Сидевший на дереве стрелок пробежал весь сад насквозь. Затем он сбежал на лед Мойки. Лед был исчерчен следами полозьев. Может статься, тут убийцу ждали сани. А сообщник преспокойно ушел к Невскому и затерялся в толпе.
Очень огорченный, Еремей пошел назад. Ему, разумеется, было жаль Катеньку. Но больше жалости была тревога за питомца. Что учудит капитан Соломин, узнав эту новость? В петлю бы не полез…
* * *
Еремей обнаружил глупейшую картину – Андрей сидел в возке, выставив ноги наружу, и негромко звал Тимошку, а кучер, отбежав на два десятка шагов, самозабвенно рыдал. Он приник к стене дома, но прохожие все равно задевали его, а кое-кто и ругал.
– Дуралей, – сказал, подойдя, старый дядька. В его устах это звучало чуть ли не лаской.
– Дядя Еремей? Как же теперь-то?
– Сам не знаю…
– А может, жива?..
– Нет, Тимоша. Беда, однако… Да не реви. Оно и видно, что под Очаковом не бывал…
Сам Еремей на покойников нагляделся. А Тимошка отродясь дальше Курска не выезжал. Он был соломинским крепостным, с детства состоял при двоюродной бабке Андрея, был отдан в обучение старому кучеру, чтобы со временем заменить его и править шестериком. Но бабка померла, и по ее завещанию Тимошка перешел к Андрею. Это выяснилось, когда Еремей вез барина через Курск. Решено было тут же забрать с собой Тимошку – а куда парню еще деваться?
Собравшись с духом, Еремей пошел к питомцу.
– Вот такое дело, Андрей Ильич, – сказал он хмуро, и одно то, что не назвал Андрея баринком разлюбезным, уже означало дурную новость. – Стало быть, стреляли – и попали в госпожу Кузьмину.
– Как это? – спросил Андрей.
– Она подошла к окошку – и выстрелили.
– Жива?
Еремей вздохнул.
– Да говори ж ты! – закричал Андрей. – Жива, мертва – прямо говори!
– Нет ее, батюшка мой… Прямо в сердце…
– В сердце… – сказав это, Андрей словно окаменел.
Дядька смотрел на него и все яснее понимал, что человек может умереть по собственному желанию, одним мощным усилием воли.
– Едем на постоялый двор, сейчас же! – закричал он. – Тимошка, черт немазаный! Где тебя носит?! Сукин сын! Да что ж тебя, за ухо к коням тащить?
Андрей позволил усадить себя в возке поудобнее. Ему было все равно – он ощущал завершение жизни так, как если бы тонул – и вода заполняла легкие. Почти безболезненно – и лишь бы скорее…
Еремей говорил без умолку, ругал раззяву Тимошку, ругал дворников, не умеющих убрать с улиц растоптанный конский навоз, погоду тоже ругал. Ему казалось – пока Андрей волей-неволей слушает его, дурные мысли не имеют доступа в Андрееву голову. Тимошке было легче – он правил лошадьми, занятый делом, и рядом с ним не сидел онемевший барин. Но на подступах к постоялому двору Семена Моисеева их всех ждало приключение.
Народу на улице случилось немного, и все продвигались медленно, чтобы не поскользнуться на ледяных лепешках. И вот Тимошка заметил человечка, который не то чтобы бежал, а очень ловко скользил по льду, словно на коньках, продвигаясь со скоростью конской рыси. За спиной у этого человечка был преогромный узел. Он проскочил чуть ли не под конскими мордами, и тогда только Тимошка его узнал.
– Ах ты негодник! – завопил кучер и развернул коней.
Погоня длилась недолго. Тимошка орал, хлестал кнутом по узлу на спине человечка и собрал наконец целую толпу веселых зевак – такого развлечения скучным зимним днем они и не чаяли. Кучер гнал Фофаню – пока тот не поскользнулся и не шлепнулся. Тогда возок остановился.
– Ну, сукин сын! – закричал, выскочив, Еремей. – Ну, чертово отродье! Андрей Ильич, а ведь мы ворюгу пригрели! – он снял с Фофани тяжелый узел и определил его вес пуда в полтора.
– Это ж он, не иначе, из сундуков повыгреб! – догадался Тимошка, у которого хватило ума не смущать обывателей словом «пистолеты». – Думал, мы поздно вернемся! Ах, ирод!
– Подвиньтесь, баринок мой любезный, – попросил Еремей, желая пристроить узел в возке. – Ну, Бог уберег. А этого проныру я сейчас пинком в гузно выше колокольни запущу!
– Погоди, – это было первое слово, сказанное Андреем за всю дорогу.
– Может, свести его в управу благочиния? – предложил Тимошка.
– Нет.
– А что же?! – Еремей не всегда понимал до конца своего барина, тут же не понимал совершенно.
– Возьмем с собой.
В конце концов Тимошка привез Андрея и украденное добро на постоялый двор в возке, а Еремей привел Фофаню за шиворот, сопровождаемый зеваками и их разнообразными советами. Там Андрей распорядился запереть вора в чулане и опять замолчал.
Еремей был мужик сообразительный. Он знал, о чем думает питомец. Первое – как проститься с невестой, если есть смысл прощаться. Не станешь же ощупывать покойницу? Второе – отчего могли застрелить Катеньку. Ведь кто-то бродил у дома, выжидал; статочно, угар – его рук дело, чтобы отворились окна и можно было с дерева попасть в человека в глубине комнаты. Значит, Катенька сильно кому-то помешала, ведь застрелить человека посреди столицы, в трех шагах от Невского, – это ж какую отчаянную наглость нужно иметь? Далее думали одновременно Еремей и его питомец: ведь Катенька не сидит сиднем дома, выезжает, бывает в гостях, в лавках, ездит на свою мануфактуру на Охту, отчего ж столь сложный и опасный способ?
Но приставать с нежностями Еремей не стал – слишком хорошо он помнил маленького, беленького, болезненного мальчика, которого сам же школил без лишних сантиментов.
– Вот что, дяденька, – вдруг сказал Андрей. – Приведи-ка ты ко мне Акиньшина.
И тут громыхнул выстрел. Катенька ахнула, взмахнула руками и пропала. В доме закричали. Тимошка остолбенел, а Еремей, схватив барина в охапку, вместе с ним рухнул в возок с криком «Гони, дурак, гони!»
– Что это было? Кто стрелял? – спрашивал, барахтаясь, Андрей.
– Дурные люди, – отвечал дядька, как когда-то в детстве, объясняя питомцу несовершенство мира.
Когда возок выкатил на Невский, Еремей дал Тимошке знак остановиться. Невский проспект был местом безопасным – полно прохожих, в том числе и военных, если кто вздумает безобразничать – сразу скрутят.
– Еремей Павлович! Объясни, Христа ради, что творится! – сердито требовал Андрей.
– Сам не знаю… Тимошка, стой тут с возком, а я схожу узнаю, что за стрельба посреди Питера, – Еремей и сейчас понимал, что целились в Катеньку, но не хотел раньше времени огорчать питомца.
Дядька отлично изучил Андреев нрав. Желание Андрея посчитаться за погибшего друга Еремей уважал – но понимал, что не так-то это просто. Тут же был враг незримый, коварный и не имеющий ни малейшего понятия о чести. Еще не понимая, как выстрел по Катеньке мог быть связан с Гришиной дуэлью, Еремей сперва утащил питомца в безопасное место, ибо береженого – Бог бережет. Он не сразу подошел к Катенькиному дому, а сперва обошел его со стороны сада.
Опасности вроде не обнаружилось, и тогда Еремей побежал к дверям. Окна все еще были открыты, доносился невнятный шум. Еремей вошел, споткнулся об оставленное Устюшкой ведро, поднялся по лестнице и, идя на голоса, приоткрыл дверь в гостиную.
Домашние женщины на коленях стояли у лежавшей на полу Катеньки. Ее руки кто-то уже скрестил на груди, как положено покойнице. Одни плакали, другие кляли обленившуюся столичную полицию. Еремей понял, что за полицией уже послано.
Никто не заметил его, и он бесшумно спустился вниз. Выстрел по Катеньке мог быть сделан только из сада. Еремей понимал, что и полицейские будут искать следов убийцы в саду, поэтому шел все краем, краем, понемногу приближаясь к подходящему месту напротив окна. Это место он узнал по веткам, с которых оказался сбит снег. Человек, стрелявший в Катеньку, вероятно, сидел на дереве.
С одной стороны, это странно – этак ведь и неделю просидеть можно, ожидая, пока из-за угара в квартире будут отворены окна да пока хозяйка зачем-то выглянет. С другой стороны – уж не водилось ли среди Катенькиной прислуги подлеца, устроившего угар за малые деньги, навроде Селифашки? Катенька терпела его, потому что он был племянником ее надежной домоправительницы и казначейши Егорьевны. С третьей стороны – человек, затеявший убийство, наверняка заранее придумал способ подманить Катеньку к окну. Скорее всего, у него имелся сообщник.
Еремей внимательно рассмотрел следы у дерева. Те оказались глубиной в пол-аршина, и о величине сапог он судить не мог. Но он смог пойти по этим следам. Сидевший на дереве стрелок пробежал весь сад насквозь. Затем он сбежал на лед Мойки. Лед был исчерчен следами полозьев. Может статься, тут убийцу ждали сани. А сообщник преспокойно ушел к Невскому и затерялся в толпе.
Очень огорченный, Еремей пошел назад. Ему, разумеется, было жаль Катеньку. Но больше жалости была тревога за питомца. Что учудит капитан Соломин, узнав эту новость? В петлю бы не полез…
* * *
Еремей обнаружил глупейшую картину – Андрей сидел в возке, выставив ноги наружу, и негромко звал Тимошку, а кучер, отбежав на два десятка шагов, самозабвенно рыдал. Он приник к стене дома, но прохожие все равно задевали его, а кое-кто и ругал.
– Дуралей, – сказал, подойдя, старый дядька. В его устах это звучало чуть ли не лаской.
– Дядя Еремей? Как же теперь-то?
– Сам не знаю…
– А может, жива?..
– Нет, Тимоша. Беда, однако… Да не реви. Оно и видно, что под Очаковом не бывал…
Сам Еремей на покойников нагляделся. А Тимошка отродясь дальше Курска не выезжал. Он был соломинским крепостным, с детства состоял при двоюродной бабке Андрея, был отдан в обучение старому кучеру, чтобы со временем заменить его и править шестериком. Но бабка померла, и по ее завещанию Тимошка перешел к Андрею. Это выяснилось, когда Еремей вез барина через Курск. Решено было тут же забрать с собой Тимошку – а куда парню еще деваться?
Собравшись с духом, Еремей пошел к питомцу.
– Вот такое дело, Андрей Ильич, – сказал он хмуро, и одно то, что не назвал Андрея баринком разлюбезным, уже означало дурную новость. – Стало быть, стреляли – и попали в госпожу Кузьмину.
– Как это? – спросил Андрей.
– Она подошла к окошку – и выстрелили.
– Жива?
Еремей вздохнул.
– Да говори ж ты! – закричал Андрей. – Жива, мертва – прямо говори!
– Нет ее, батюшка мой… Прямо в сердце…
– В сердце… – сказав это, Андрей словно окаменел.
Дядька смотрел на него и все яснее понимал, что человек может умереть по собственному желанию, одним мощным усилием воли.
– Едем на постоялый двор, сейчас же! – закричал он. – Тимошка, черт немазаный! Где тебя носит?! Сукин сын! Да что ж тебя, за ухо к коням тащить?
Андрей позволил усадить себя в возке поудобнее. Ему было все равно – он ощущал завершение жизни так, как если бы тонул – и вода заполняла легкие. Почти безболезненно – и лишь бы скорее…
Еремей говорил без умолку, ругал раззяву Тимошку, ругал дворников, не умеющих убрать с улиц растоптанный конский навоз, погоду тоже ругал. Ему казалось – пока Андрей волей-неволей слушает его, дурные мысли не имеют доступа в Андрееву голову. Тимошке было легче – он правил лошадьми, занятый делом, и рядом с ним не сидел онемевший барин. Но на подступах к постоялому двору Семена Моисеева их всех ждало приключение.
Народу на улице случилось немного, и все продвигались медленно, чтобы не поскользнуться на ледяных лепешках. И вот Тимошка заметил человечка, который не то чтобы бежал, а очень ловко скользил по льду, словно на коньках, продвигаясь со скоростью конской рыси. За спиной у этого человечка был преогромный узел. Он проскочил чуть ли не под конскими мордами, и тогда только Тимошка его узнал.
– Ах ты негодник! – завопил кучер и развернул коней.
Погоня длилась недолго. Тимошка орал, хлестал кнутом по узлу на спине человечка и собрал наконец целую толпу веселых зевак – такого развлечения скучным зимним днем они и не чаяли. Кучер гнал Фофаню – пока тот не поскользнулся и не шлепнулся. Тогда возок остановился.
– Ну, сукин сын! – закричал, выскочив, Еремей. – Ну, чертово отродье! Андрей Ильич, а ведь мы ворюгу пригрели! – он снял с Фофани тяжелый узел и определил его вес пуда в полтора.
– Это ж он, не иначе, из сундуков повыгреб! – догадался Тимошка, у которого хватило ума не смущать обывателей словом «пистолеты». – Думал, мы поздно вернемся! Ах, ирод!
– Подвиньтесь, баринок мой любезный, – попросил Еремей, желая пристроить узел в возке. – Ну, Бог уберег. А этого проныру я сейчас пинком в гузно выше колокольни запущу!
– Погоди, – это было первое слово, сказанное Андреем за всю дорогу.
– Может, свести его в управу благочиния? – предложил Тимошка.
– Нет.
– А что же?! – Еремей не всегда понимал до конца своего барина, тут же не понимал совершенно.
– Возьмем с собой.
В конце концов Тимошка привез Андрея и украденное добро на постоялый двор в возке, а Еремей привел Фофаню за шиворот, сопровождаемый зеваками и их разнообразными советами. Там Андрей распорядился запереть вора в чулане и опять замолчал.
Еремей был мужик сообразительный. Он знал, о чем думает питомец. Первое – как проститься с невестой, если есть смысл прощаться. Не станешь же ощупывать покойницу? Второе – отчего могли застрелить Катеньку. Ведь кто-то бродил у дома, выжидал; статочно, угар – его рук дело, чтобы отворились окна и можно было с дерева попасть в человека в глубине комнаты. Значит, Катенька сильно кому-то помешала, ведь застрелить человека посреди столицы, в трех шагах от Невского, – это ж какую отчаянную наглость нужно иметь? Далее думали одновременно Еремей и его питомец: ведь Катенька не сидит сиднем дома, выезжает, бывает в гостях, в лавках, ездит на свою мануфактуру на Охту, отчего ж столь сложный и опасный способ?
Но приставать с нежностями Еремей не стал – слишком хорошо он помнил маленького, беленького, болезненного мальчика, которого сам же школил без лишних сантиментов.
– Вот что, дяденька, – вдруг сказал Андрей. – Приведи-ка ты ко мне Акиньшина.