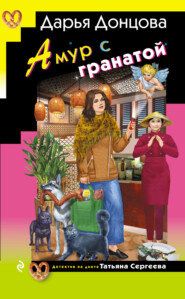По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
13 несчастий Геракла
Автор
Год написания книги
2003
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Очень милые.
– На мой взгляд тоже, – кивнула Лариса Викторовна, – но не все ее произведения таковы. От замка меня оторопь берет.
– Это тоже принадлежит кисти Глафиры Анисимовны? – поразился я. – Надо же, какие полярные вещи! Собачата, котята и висельник!
Лариса Викторовна налила мне еще кофе, потом наполнила доверху свою чашку и принялась самозабвенно сплетничать.
Мать Сергея Петровича была странной женщиной. Но ее муж, Петр Фадеевич, вначале не обращал внимания на, мягко говоря, не совсем адекватное поведение жены. Глафира легко переходила от смеха к слезам, быстро обижалась, помнила обиды десятилетиями и могла возненавидеть человека, если он приходил в платье красного цвета. Дальше – больше. Постепенно ее начал раздражать яркий солнечный свет, она стала задергивать плотные гардины и жечь сутки напролет искусственный свет. Потом появилась новая фенька – Глафире стали повсюду мерещиться враги, она перестала есть еду, которую готовила кухарка, питалась одним печеньем, лично покупая его в булочных и пряча у себя в спальне.
Все окружающие воспринимали Глафиру как сумасшедшую, один Петр Фадеевич считал супругу милой сумасбродкой, но, когда она бросилась на мужа с ножом, выкрикивая: «Ты решил меня убить», и у супруга спала пелена с глаз.
В дом косяком потянулись врачи. Диагноз звучал приговором – прогрессирующая шизофрения.
Петр Фадеевич принялся лечить супругу, его жизнь превратилась в цепь однотипных событий: обострение недуга жены – ремиссия – снова ухудшение.
Жить с психически больным человеком в одном доме тяжелый крест. Петр Фадеевич терпеливо сносил все – истерики, крики: «Сейчас покончу с собой», вопли: «Я тебя мучаю…»
Но господь заметил страдания Кузьминского, и случилось счастливое событие. Однажды Петр Фадеевич купил своему маленькому сыну Сереже акварельные краски. Мальчик, с увлечением игравший в солдатиков, вежливо поблагодарил папеньку и забросил коробку в шкаф. Невесть как она попала в руки Глафиры. За одну ночь дама превратилась в страстную художницу. Петр Фадеевич не верил своим глазам. Бьющаяся по пять раз на дню в истерических припадках супруга приклеилась к бумаге, с невероятным энтузиазмом водя по ней кисточкой.
Естественно, муж кинулся в магазин. Через неделю комната Глафиры была превращена в мастерскую. Измученный Петр Фадеевич приобрел жене самые лучшие краски, супердорогие кисти, изумительную бумагу, холсты, заказал мольберт.
В квартире воцарился долгожданный покой, Глафира стала другим человеком, припадки безумия и злобы сошли практически на нет.
Петр Фадеевич как мог поощрял жену. Ее полотна вставлялись в роскошные рамы и немедленно вывешивались на стенах. Гостям вменялось в обязанность изо всех сил хвалить картины. Те, кто недоуменно поднимал брови или презрительно кривил губы, объявлялись персонами нон грата и более никогда к Кузьминским не приглашались.
В Глафире словно сидело два человека. Один – светлая, радостная личность, любившая запечатлевать животных, другой – мрачный субъект, предпочитавший писать темными красками всякие гадости. Но Петр Фадеевич старательно делал вид, что не замечает шизофренического раздвоения личности супруги. Он сумел организовать ее выставку. Глафира продала пару полотен и почувствовала себя счастливой.
Психиатры только качали головами.
– Кто бы мог подумать, – не удержался однажды профессор Кох, наблюдавший Глафиру, – ведь процесс необратимый, а ваша жена прямо переродилась.
Услыхав эти недоуменные слова светила, суеверный Петр Фадеевич сплюнул и перекрестился: он очень боялся, что супругу сглазят.
В течение пяти лет Глафира казалась совершенно нормальной, может, чуть слишком экзальтированной дамой, но потом неожиданно случилось несчастье. Ровно полгода Глафира писала свой портрет, однажды утром она мрачно сообщила мужу:
– Картина закончена.
– Ну-ка, – засуетился Петр Фадеевич, – покажи мне ее скорей!
Жена провела его к себе. Петр Фадеевич принялся нахваливать автопортрет супруги в роскошном сером платье. Когда фонтан восторженных слов иссяк, художница сурово заявила:
– Теперь я вижу: вещь недописана!
– Что ты, душечка, – залебезил несчастный Петр Фадеевич, – потрясающее полотно, лучшая твоя работа, многие умерли, не создав ничего подобного.
– Значит, полагаешь, я могу со спокойной душой сойти в могилу? – криво усмехнулась жена.
– Ну и ерунда взбрела тебе в голову! – испугался муж.
Внезапно Глафира встала, схватила кисть, окунула ее в алую краску и поставила на холст пятно.
– Что ты делаешь! – воскликнул Петр Фадеевич. – Надо немедленно стереть!
– Пусть будет так! – отчеканила Глафира. – Теперь сходство полное!
Петр Фадеевич только хлопал глазами, потом он увидел, что жена пришла в хорошее настроение, и тоже повеселел. Вечер провели чудесно, играли в карты и даже выпили вина. Петр Фадеевич лег спать счастливым человеком.
Утром он нашел жену возле злополучного автопортрета мертвой, одетой в роскошное бальное платье серого цвета с воланчиками, рюшечками и кружавчиками. Но самое странное было то, что в шее трупа, чуть повыше ключиц, там, где на портрете виднелось красное пятно, торчали ножницы. Глафира покончила с собой самым ужасным способом.
Петр Фадеевич сам едва не рехнулся, поняв, что жена задумала лишить себя жизни вчера, в тот момент, когда решила «дописать» портрет.
Глафиру Анисимовну похоронили. Ее картины остались висеть на стенах, и Сережа вырос в полной уверенности, что его мать гениальная живописица. Сам он тоже баловался красками и до сих пор в редкие минуты отдыха становился к мольберту.
– Понятно теперь, почему в доме нет никаких картин, кроме этих? – спросила Лариса.
Я кивнул:
– В общем, да. Очевидно, у Сергея Петровича просто железные нервы!
– Отчего вы пришли к такому выводу? – изумилась экономка.
– Ну я бы не хотел повесить у себя в доме портрет с такой мрачной историей. И это жуткое пятно! Оно совершенно не потемнело от времени!
– Какое пятно? – пробормотала Лариса.
– Ну вы же сами рассказали про него! На шее, у ключицы! Смотреть и вспоминать, как твоя мать покончила с собой! Бр! Согласитесь, малоприятное занятие!
– Там нет никакого пятна! – подскочила экономка.
Я уставился на нее в недоумении:
– Но вы только что так красочно живописали семейную трагедию Кузьминских, или я чего-то не понял? Глафира Анисимовна ткнула в полотно кистью с алой краской…
– Да, – перебила меня Лариса, – именно так и обстояло дело. Только Петр Фадеевич смыл растворителем свежую метку, оставил портрет без пятна. У этой истории имеется жуткое продолжение.
– Какое? – осторожно спросил я.
– Несколько лет автопортрет жены висел в гостиной, потом на нем неожиданно опять появилась пурпурная отметина, – замогильным шепотом продолжала экономка, – в том самом месте, где прикоснулась кисточкой несчастная Глафира. Петр Фадеевич чуть не скончался от ужаса, когда увидел пятно! Он к тому времени уже был женат во второй раз! И знаете что?
– Что? – обалдело спросил я, чувствуя, как по спине отчего-то бежит дрожь.
– Его новая супруга Варвара была обнаружена на следующий день мертвая, в гостиной, около картины, – зашипела экономка, – в шее бедняжки торчали ножницы. А пятно таинственным образом пропало с полотна!
Я попытался улыбнуться. Когда-то в детстве мы с приятелями обожали страшилки. Перед глазами встал чердак дачи Тины Рой. Вот мы, стайка детей, мальчиков и девочек, бросаем велосипеды во дворе. На пороге появляется тетя Эстер и радушно зазывает всех пить чай. Наевшись вкусных плюшкек, мы залезаем на чердак и начинаем рассказывать безумные истории: про торт с красной розой, из которого выскакивает рука, про перчатку, которая душит своего владельца, про куклу, убивающую хозяйку, про страшное подземелье… Заканчивалась забава всегда одинаково. С громким визгом мы неслись по шаткой лестнице вниз и налетали на тетю Эстер, укоризненно качавшую головой.
– Ну сколько можно заниматься глупостями, – сердито говорила она, – лучше съешьте шоколадный торт, Наташа его только что испекла.
Развлекались мы подобным образом лет до четырнадцати, а потом повзрослели и перестали пугаться. Но, похоже, Лариса Викторовна осталась в глубоком детстве, потому что сейчас она с самым серьезным видом вещала:
– На мой взгляд тоже, – кивнула Лариса Викторовна, – но не все ее произведения таковы. От замка меня оторопь берет.
– Это тоже принадлежит кисти Глафиры Анисимовны? – поразился я. – Надо же, какие полярные вещи! Собачата, котята и висельник!
Лариса Викторовна налила мне еще кофе, потом наполнила доверху свою чашку и принялась самозабвенно сплетничать.
Мать Сергея Петровича была странной женщиной. Но ее муж, Петр Фадеевич, вначале не обращал внимания на, мягко говоря, не совсем адекватное поведение жены. Глафира легко переходила от смеха к слезам, быстро обижалась, помнила обиды десятилетиями и могла возненавидеть человека, если он приходил в платье красного цвета. Дальше – больше. Постепенно ее начал раздражать яркий солнечный свет, она стала задергивать плотные гардины и жечь сутки напролет искусственный свет. Потом появилась новая фенька – Глафире стали повсюду мерещиться враги, она перестала есть еду, которую готовила кухарка, питалась одним печеньем, лично покупая его в булочных и пряча у себя в спальне.
Все окружающие воспринимали Глафиру как сумасшедшую, один Петр Фадеевич считал супругу милой сумасбродкой, но, когда она бросилась на мужа с ножом, выкрикивая: «Ты решил меня убить», и у супруга спала пелена с глаз.
В дом косяком потянулись врачи. Диагноз звучал приговором – прогрессирующая шизофрения.
Петр Фадеевич принялся лечить супругу, его жизнь превратилась в цепь однотипных событий: обострение недуга жены – ремиссия – снова ухудшение.
Жить с психически больным человеком в одном доме тяжелый крест. Петр Фадеевич терпеливо сносил все – истерики, крики: «Сейчас покончу с собой», вопли: «Я тебя мучаю…»
Но господь заметил страдания Кузьминского, и случилось счастливое событие. Однажды Петр Фадеевич купил своему маленькому сыну Сереже акварельные краски. Мальчик, с увлечением игравший в солдатиков, вежливо поблагодарил папеньку и забросил коробку в шкаф. Невесть как она попала в руки Глафиры. За одну ночь дама превратилась в страстную художницу. Петр Фадеевич не верил своим глазам. Бьющаяся по пять раз на дню в истерических припадках супруга приклеилась к бумаге, с невероятным энтузиазмом водя по ней кисточкой.
Естественно, муж кинулся в магазин. Через неделю комната Глафиры была превращена в мастерскую. Измученный Петр Фадеевич приобрел жене самые лучшие краски, супердорогие кисти, изумительную бумагу, холсты, заказал мольберт.
В квартире воцарился долгожданный покой, Глафира стала другим человеком, припадки безумия и злобы сошли практически на нет.
Петр Фадеевич как мог поощрял жену. Ее полотна вставлялись в роскошные рамы и немедленно вывешивались на стенах. Гостям вменялось в обязанность изо всех сил хвалить картины. Те, кто недоуменно поднимал брови или презрительно кривил губы, объявлялись персонами нон грата и более никогда к Кузьминским не приглашались.
В Глафире словно сидело два человека. Один – светлая, радостная личность, любившая запечатлевать животных, другой – мрачный субъект, предпочитавший писать темными красками всякие гадости. Но Петр Фадеевич старательно делал вид, что не замечает шизофренического раздвоения личности супруги. Он сумел организовать ее выставку. Глафира продала пару полотен и почувствовала себя счастливой.
Психиатры только качали головами.
– Кто бы мог подумать, – не удержался однажды профессор Кох, наблюдавший Глафиру, – ведь процесс необратимый, а ваша жена прямо переродилась.
Услыхав эти недоуменные слова светила, суеверный Петр Фадеевич сплюнул и перекрестился: он очень боялся, что супругу сглазят.
В течение пяти лет Глафира казалась совершенно нормальной, может, чуть слишком экзальтированной дамой, но потом неожиданно случилось несчастье. Ровно полгода Глафира писала свой портрет, однажды утром она мрачно сообщила мужу:
– Картина закончена.
– Ну-ка, – засуетился Петр Фадеевич, – покажи мне ее скорей!
Жена провела его к себе. Петр Фадеевич принялся нахваливать автопортрет супруги в роскошном сером платье. Когда фонтан восторженных слов иссяк, художница сурово заявила:
– Теперь я вижу: вещь недописана!
– Что ты, душечка, – залебезил несчастный Петр Фадеевич, – потрясающее полотно, лучшая твоя работа, многие умерли, не создав ничего подобного.
– Значит, полагаешь, я могу со спокойной душой сойти в могилу? – криво усмехнулась жена.
– Ну и ерунда взбрела тебе в голову! – испугался муж.
Внезапно Глафира встала, схватила кисть, окунула ее в алую краску и поставила на холст пятно.
– Что ты делаешь! – воскликнул Петр Фадеевич. – Надо немедленно стереть!
– Пусть будет так! – отчеканила Глафира. – Теперь сходство полное!
Петр Фадеевич только хлопал глазами, потом он увидел, что жена пришла в хорошее настроение, и тоже повеселел. Вечер провели чудесно, играли в карты и даже выпили вина. Петр Фадеевич лег спать счастливым человеком.
Утром он нашел жену возле злополучного автопортрета мертвой, одетой в роскошное бальное платье серого цвета с воланчиками, рюшечками и кружавчиками. Но самое странное было то, что в шее трупа, чуть повыше ключиц, там, где на портрете виднелось красное пятно, торчали ножницы. Глафира покончила с собой самым ужасным способом.
Петр Фадеевич сам едва не рехнулся, поняв, что жена задумала лишить себя жизни вчера, в тот момент, когда решила «дописать» портрет.
Глафиру Анисимовну похоронили. Ее картины остались висеть на стенах, и Сережа вырос в полной уверенности, что его мать гениальная живописица. Сам он тоже баловался красками и до сих пор в редкие минуты отдыха становился к мольберту.
– Понятно теперь, почему в доме нет никаких картин, кроме этих? – спросила Лариса.
Я кивнул:
– В общем, да. Очевидно, у Сергея Петровича просто железные нервы!
– Отчего вы пришли к такому выводу? – изумилась экономка.
– Ну я бы не хотел повесить у себя в доме портрет с такой мрачной историей. И это жуткое пятно! Оно совершенно не потемнело от времени!
– Какое пятно? – пробормотала Лариса.
– Ну вы же сами рассказали про него! На шее, у ключицы! Смотреть и вспоминать, как твоя мать покончила с собой! Бр! Согласитесь, малоприятное занятие!
– Там нет никакого пятна! – подскочила экономка.
Я уставился на нее в недоумении:
– Но вы только что так красочно живописали семейную трагедию Кузьминских, или я чего-то не понял? Глафира Анисимовна ткнула в полотно кистью с алой краской…
– Да, – перебила меня Лариса, – именно так и обстояло дело. Только Петр Фадеевич смыл растворителем свежую метку, оставил портрет без пятна. У этой истории имеется жуткое продолжение.
– Какое? – осторожно спросил я.
– Несколько лет автопортрет жены висел в гостиной, потом на нем неожиданно опять появилась пурпурная отметина, – замогильным шепотом продолжала экономка, – в том самом месте, где прикоснулась кисточкой несчастная Глафира. Петр Фадеевич чуть не скончался от ужаса, когда увидел пятно! Он к тому времени уже был женат во второй раз! И знаете что?
– Что? – обалдело спросил я, чувствуя, как по спине отчего-то бежит дрожь.
– Его новая супруга Варвара была обнаружена на следующий день мертвая, в гостиной, около картины, – зашипела экономка, – в шее бедняжки торчали ножницы. А пятно таинственным образом пропало с полотна!
Я попытался улыбнуться. Когда-то в детстве мы с приятелями обожали страшилки. Перед глазами встал чердак дачи Тины Рой. Вот мы, стайка детей, мальчиков и девочек, бросаем велосипеды во дворе. На пороге появляется тетя Эстер и радушно зазывает всех пить чай. Наевшись вкусных плюшкек, мы залезаем на чердак и начинаем рассказывать безумные истории: про торт с красной розой, из которого выскакивает рука, про перчатку, которая душит своего владельца, про куклу, убивающую хозяйку, про страшное подземелье… Заканчивалась забава всегда одинаково. С громким визгом мы неслись по шаткой лестнице вниз и налетали на тетю Эстер, укоризненно качавшую головой.
– Ну сколько можно заниматься глупостями, – сердито говорила она, – лучше съешьте шоколадный торт, Наташа его только что испекла.
Развлекались мы подобным образом лет до четырнадцати, а потом повзрослели и перестали пугаться. Но, похоже, Лариса Викторовна осталась в глубоком детстве, потому что сейчас она с самым серьезным видом вещала: