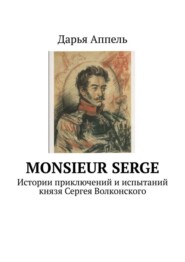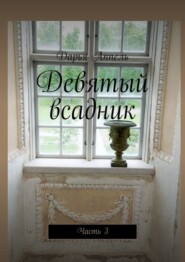По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Девятый всадник. Часть I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нас записали в хороший полк, но перед тем, как начать службу и выйти в жизнь, нам предстояло проделать нелегкую работу – превратиться из «неотесанных» в competentis, чтобы не стыдно было показываться в высшем обществе. Матушка, конечно, и до того проделала великую работу, привив нам начатки манер, такта и светской сдержанности, а еще больше – упорства и трудолюбия. Дело оставалось за малым – за знаниями и умениями, приличествующими аристократам. За краткие 5 лет я выучился всему, что знали мои друзья, детство которых протекало в более тепличных условиях – свободно болтать по-французски и не столь свободно – по-русски, разбирать латынь, а также снова занялись военными упражнениями, которые стали более интенсивными.
Абсолютному большинству моих сверстников такое «образование» пришлось в самую пору, но я всегда смутно чувствовал – я могу знать, уметь и помнить большее. Иногда я задумывался, – а почему бы не кончить курс, например, в Лейдене или в Гейдельберге? Вместе с тем я понимал, что это желание не найдет поддержки ни в ком. Ни один фон Ливен отроду не кончал никаких университетов. Впоследствии я со всей свойственной первой молодости легкомысленностью подавил в себе желание идти дальше по пути просвещения. Тем более, меня только зачислили в полк – и началась невеликая война со шведами. Утром вяло перестреливались, вечером пили шампанское вместе с вражескими офицерами. Я имел случай отличиться в бою при Фридрисхгаме, потом свалился с гнилой горячкой, а пока выздоравливал, объявили перемирие. Однако мое «отличие» и моя «храбрость» не прошли незамеченными, и я быстро был пожалован в офицеры, что надолго сделало меня счастливым.
…Никто тогда не знал, что нам готовит рок. Ходили смутные рассказы о перевороте – la rеvolution – во Франции, о свержении тамошнего короля, о вероятной большой войне. Но ни я, ни мои товарищи не задумывались о том, что в событиях, о которых мы узнавали из газет и смутных пересказов, нам вскоре предстоит сыграть большую роль.
Глава 1
Рига, осень 1793-го
Свадьбу младшей дочери баронессы Ливен отмечали воистину со столичным размахом. Погоды стояли великолепные – словно лето снова вернулось во всей своей красе. И звенели колокола собора св. Петра, и народ столпился поглазеть на прекрасную шестнадцатилетнюю невесту и не столь прекрасного, но весьма представительного и, главное, богатого жениха. Бурхарду-Кристофу фон Фитингофу от отца досталось пол-Лифляндии. Приданое красавицы-невесты, отправившейся под венец в расшитом жемчугами палевом платье и скромно перехваченными нитями из тех же жемчужин, но только в три раза крупнее, волнистыми волосами цвета зрелой пшеницы, было не таким внушительным и состояло, главным образом, во влиянии ее матушки при Дворе. Фрау Шарлотта была тут же, сменив свой вечный траур на строгое платье темно-лилового цвета. С нею присутствовали все ее чада и домочадцы, а также множество других родственников.
…Кристоф, брат невесты, поручик Семеновского полка, всю церемонию скучал, рассматривая от нечего делать витражи – вот епископ Альбрехт принимает поклон у местных жителей, ставших его вассалами; вот высится приземистым полукругом Рижский замок; дневной свет причудливо преломлялся в витражах, отбрасывая алые, рыжие, зеленовато-синие тени в полумрак собора. Голос пастора, пение хора и гул органа доносились до него как сквозь пелену. «Не надо было столько пить», – грустно подытожил он свое состояние. А ведь вчера было крайне весело… Бурхарда провожали в женатую жизнь. От того вечера и ночи остались смутные воспоминания и глухое чувство стыда – смятая постель, тонкий женский визг, разбитый хрусталь, вкус тошноты во рту, снисходительный смех не пойми уже кого… «Если можно, повторим», – то шепнул его кузен Карл, толкнув его в бок. «Иди ты», – сказал Кристоф без особого выражения, поминутно оглядываясь – не услышали ли важные тетушки, как одна, вытиравшие слезы платочком от умиления – а то и от зависти. «Нет, я серьезно», – продолжал его кузен, которому тоже было крайне скучно. «А то поехали от всех них в Мерцендорф». «Что там делать?» – младший из юношей подавил зевок рукой. «Охота сейчас открылась». Тут на них шикнули, и юноши смиренно выпрямились, словно их интересовала вся церемония.
«А чего бы не поехать?», – фон-Ливену младшему было все равно. В имении своего дяди он давно не был, охотиться любил, а все больше ему хотелось немного забыться от бесконечной службы и Петербурга. Отчего-то в свои девятнадцать ему казалось, что жизнь он упускает. Кристоф безумно завидовал своему брату Карлу, щеголю и задире, вышедшему давеча в полковники. Вот он сидит на передней скамье с видом хозяина в жизни; когда сестру он, на правах старшего кровного родственника, повел к алтарю, взяв под руку – его перепутали с пухлым низеньким женихом и доля ликований зевак досталась ему. «Почему меня никто никуда не берет?» – спрашивал себя, а иногда и матушку свою Кристоф, но ответ был один – слишком он юн, свою долю почестей и славы получит в свое время, которое все не наступало. «Я же стараюсь… Неужели мне всегда бывать вторым после старшего брата?» Но он понимал – дело не в Карле. Дело в отсутствии чего-то особенного, отличавшего его от многих других. Разве что весьма авантажная внешность. Худенький, болезненный мальчик превратился в стройного, высокого, белокурого и синеглазого юношу, на котором девицы и дамы останавливали благосклонные взгляды чуть долее обыкновенного. Впрочем, мало ли в свете красавцев? «И что это мне дает?» – думал он, глядя в зеркало. «Разве что в чьи-либо аманты идти…»
«Аманты»… Само это слово связывалось со вкусом прокисшего вина и досужей вульгарной болтовней. И со слухами про die Alte Keizerin: «Ты, Кристхен, поосторожнее при Дворе, иначе тобою заменят Платошу Зубова…««Это предположение вызвало тогда в нем гнев, еще и усугубившийся шампанским. Кажется, он полез бить морду говорившему. «Слушай, Карл. Меня вчера никто на поединок не вызывал?» – тихонько спросил он у своего кузена, который от скуки болтал ногами под лавкой. «Унгерн-то? Да он сам на ногах еле держался», – проговорил тот. «А ты на него не обижайся. Он сумасшедший…». «Но дело так оставить нельзя», – нахмурился Кристоф. «Проливать чужую кровь на свадьбе собственной сестренки – это как-то…», – вздохнул Вилли. Их беседу прервала фрау Шарлотта, строгим голосом произнесшая: «Вы ведете себя неблагопристойно, и от тебя, мой сын, я этого более всех не ожидала». Пришлось демонстративно отвернуться от кузена и считать минуты, покамест эта тягомотина, называемая «венчанием», закончится. «Неужели только в фавориты я и годен?» – думал он. «Но в фавориты этой…» Одним из кошмарных снов и сюжетов болезненного бреда было для него соитие со страшной толстой старухой, повергающей его наземь и овладевающей им. Он пытается ее сбросить с себя, но противостоять как этому ненасытному и мерзкому существу, так и внезапно, против его воли явившемуся желанию, Кристоф был не в силах. Лица его мучительницы он никогда не мог запомнить, но воображал, что она все же похожа на старую государыню. И наяву, сам того не сознавая, страшился разводов и караулов, всех тех случаев, когда он мог бы попасться на глаза правительницы. Платон Зубов старше его самого всего лишь на семь лет. Кто знает, может быть, «благосклонный лик» обратится и на него? От фавора же не откажешься… «Не беспокойся. Она не любит немцев», – кто-то тогда, на попойке, сказал. – «Хотя Зубов и впрямь герой…» Нет. Таким героем он был не готов стать. А другого «случая» для себя не видел. И сейчас мысли об этом сливались с общей похмельной тоской.
…После венчания они с кузеном, не оставаясь на свадебный пир, уехали в тот самый Мерцендорф. Они отправились верхом, переговариваясь между собой, как ловко провели всех и скрылись от безумных тетушек и дядюшек, которые их бы усадили играть «по маленькой» в вист. Кристоф несколько беспокоился тем, что Катхен, его новобрачная сестра, страшно обидится на него, но утешал себя тем, что два месяца назад смог вытерпеть ее скучнейшую помолвку и отсидел весь срок венчания, так что на оставшихся торжествах имеет полное право не присутствовать. Вечер спускался на землю медленно, тая в дальней туманной дымке, покрывавшей лес. Медленно падали золотистые листья, устилая землю. Несмотря на веселую болтовню, Кристоф по-прежнему чувствовал некую меланхолию, как в модных сентиментальных романах, которыми зачитывались его сестры. Казалось, здесь он последний раз. А что дальше?
Сумерки окончательно сгустились. Кривоватая лесная тропа превратилась в длинную подъездную аллею, которую стерегли старые, сплетающиеся кронами липы. Господский дом – приземистое строение о двух этажах, недавно покрашенное желтым, с недавно пристроенными белыми колоннами и родовым гербом – пять лилий и три звезды – на фасаде – приветливо манил огоньками. «Нас не ждут», – усмешливо проговорил Карл. – «Небось, думают, что мы в Риге гуляем». «Я представляю», – мрачно добавил Кристоф. – «Как нас там клянут». «Кто клянет? Молодым не до нас нынче», – усмехнулся его кузен. – «А что до всех прочих – черта ли в них?» Его собеседник понимающе улыбнулся. Увидев, как навстречу выходит старый дворецкий с фонарем, они спешились, и отправились к позднему, наскоро приготовленному ужину.
CR (1817)
Те дни осени 1793-го, проведенные мною в Мерцендорфе, поместье моего кузена барона Карла фон Ливена, оказались для меня решающими. По сути, мы ничем полезным не занимались – я пытался найти в его небогатой, доставшейся от отца библиотеке что-то интересное для чтения, но попадались всё сплошь хозяйственные альманахи, молитвенники и один назидательный роман без конца и начала – обложку и первые страницы съели крысы и плесень. Погода стояла на редкость хорошая для этого времени года. Охота была тоже неплохой – каждый день я приносил десятка два уток, вальдшнепов и бекасов, мы сами их ощипывали и жарили на вертеле. Разговоры нам вскоре прискучили. До конца моего отпуска была еще неделя, когда внезапно я нашел то, чего, как впоследствии оказалось, слишком долго искал. Но тогда я не понял всего значения этой находке.
Как-то раз, от нечего делать, я, объезжая окрестности, решил зайти в некую полуразвалившуюся постройку на северо-западной окраине парка, переходившего в лес. Издалека она напоминала то ли часовню, то ли руины какого-то оборонительного сооружения. Кузен мой не мог с точностью ответить, для чего она предназначалась, только плечами пожал. С виду здание казалось очень необычным, возможно, времен крестоносцев, – тем оно и привлекло мое внимание. Надо сказать, в Лифляндии и Эстляндии таких руин гораздо меньше, чем можно себе вообразить – мы не романтичная Бавария и даже не Гессен, народ у нас по большей части нищ и все сколько-нибудь годное, что осталось без пригляда, растащит по кирпичикам. То, что до сих пор можно увидеть как свидетельство тех полулегендарных времен, когда земли ливов и эстов завоевывали огнем и мечом наши предки, сохранилось исключительно благодаря энтузиазму и интересу отдельных помещиков. Однако к той загадочной постройке, которая привлекла мой интерес осенью 1793-го, это утверждение не относится. Мои родственники, несмотря на всю свою практичность и скромную бедность, просто не обращали внимания на то, что над деревьями их запущенного парка возвышаются какие-то остатки старины глубокой. В то утро, – как помню, довольно хмурое, – когда кузен отлеживался, а мне не спалось, я решил выяснить загадку руины с заколоченными окнами и отправился туда.
Дверь, когда-то отличавшаяся прочностью, рассохлась и, несмотря на внушительный, хотя и проржавевший замок, я смог без труда проникнуть внутрь, чуть тронув ручку. С собой я предусмотрительно догадался взять свечу и тут же запалил ее. Стук моих сапог гулко раздавался по разбитому каменному полу. Своим явлением я вспугнул рой летучих мышей и каких-то мелких темных птиц, заметавшихся под решетчатыми балками потолка. Крыша сохранилась в более-менее приличном состоянии. Внутри почти ничего. Сводчатые окна заколочены извне крест-накрест деревянными досками. Судя по состоянию и сохранившимся фрагментам архитектуры, здание построено не так давно, может быть, в прошлом или в начале нынешнего столетия. Возможно, оно и впрямь было заброшенной кирхой – на это указывала полукруглая форма здания, высокие сводчатые окна, возвышение прямо напротив входа, напоминающее алтарь. По мере осмотра я все более убеждался в этом своем предположении. Я подошел поближе к «алтарю» и увидел лестницу, ведущую к двери, расположенной прямо под забитым окном. В ту пору я был молод и крайне любопытен, поэтому, недолго думая, отправился прямо по лестнице, страшно заскрипевшей у меня под ногами. Дверь поддалась не сразу; ее проем оказался довольно низким – ниже моего собственного роста. Я почему-то вообразил, что за ней находится клад. После четвертой попытки она чуть приоткрылась, и я, приложив некоторую силу, вступил в небольшую комнату. Свеча у меня почти что догорела, а запасная осталась в седельной сумке. Но, к счастью, здесь было довольно светло: окна под самой крышей, отчего-то не заколоченные, пропускали неверный свет. Передо мной стоял круглый – абсолютно круглый – стол, занимающий почти всю комнату. На стенах висели чьи-то потемневшие портреты и картины без рам. Я обошел их, пытаясь разглядеть изображения. Один портрет я смог признать – ровно такой же висел в галерее Мерцендорфа. На нем был изображен наш с кузеном общий дед и мой тезка, Кристоф Рейнгольд (он же Роман Иванович) фон Ливен, Freiherr, кавалер русских и шведских орденов, противник герцога-конюха Бирена и сторонник легендарного фельдмаршала Миниха, с внуком которого недавно породнилась моя сестрица. Вроде бы, я уже видел этот портрет, и черты моего не столь далекого предка были знакомы мне, но что-то заставило меня задержать на нем взгляд. Дед был написан обряженным в алый кафтан с белом кружевном жабо, в тупее, перехваченном черной лентой. Все, как на портрете в «большом доме». Но было одно различие. Здесь на его плечи был наброшен то ли плащ, то ли шинель – белого цвета с алым подбоем, как, пишут, носили римские легионеры или же рыцари-храмовники. Тонкие пальцы деда держали край этой загадочной мантии. И внизу, прямо на холсте, подпись готическим шрифтом: «Castitas et Cognitio». Почему-то на этом портрете дед вышел особенно похожим на меня – точнее, на того, кем я мне было суждено стать лет через 20—30. Мне сделалось несколько не по себе. Я обошел каждый уголок комнаты, обнаружив всего двенадцать портретов незнакомых людей. Все они носили белые плащи с алой подбивкой. Люди, судя по их одеждам и пудреным парикам, жили примерно в одно время с дедом – в 1730-е годы. Внизу – подписи той же готикой. Одни я разобрать и перевести смог, другие были для меня уж слишком мудреными. Тринадцатый портрет представлял собой пустой холст. На нем можно было увидеть лишь причудливо нарисованный крест – даже не крест, а цветок о шести лепестках на длинном стебле. C.R. – было подписано внизу. Я бы, может быть, разглядел еще что-то, но свеча погасла и в комнате потемнело – начал накрапывать дождь. Чувство того, что я нахожусь там, где находиться не должен, только усилилось. Это был не страх, а некое томление души, тревога, словно сейчас произойдет что-то нехорошее. Взяв себя в руки, я рассудил, что пора уже выходить, и развернулся. Вдруг я увидел на уровне своих глаз – прямо над дверным проемом – надпись на немецком: «Каждый может сюда войти, не каждый сможет выйти». Я только выругался. Потом быстро покинул таинственную комнату, стараясь не оглядываться, хотя соблазн был велик. Казалось, я очутился в какой-то глупой сказке или в «страшном» романе г-жи Радклифф, которые тогда только входили в моду. В главном зале было темно, летучие мыши чуть ли не врезались в меня на лету, но я направлялся к выходу, стараясь не думать, что означает все мною увиденное. Мой конь Алмаз, почувствовав мое состояние, сначала отпрянул от меня, и мне стоило больших усилий вновь оседлать его. Дав коню шпоры, я ускакал прочь от этой проклятой руины.
Кузену я сказал, что он был прав – это никуда не годный сарай, его бы лучше снести и построить на его месте нечто более приличное и услаждающее взгляд – желательно, в новом стиле, с колоннами и портиками. Но фраза, начертанная над выходом из комнаты, где я видел портрет своего деда в окружении других лиц, врезалась мне в память навсегда: «Каждый может войти, не каждый сможет выйти». Так и оказалось. Я оттуда так и не вышел.
СПб, ноябрь 1793-го.
…Когда Кристоф заявил категорично, за очередным семейным обедом, что решил перевестись на флот, воцарилось такое молчание, словно он сообщил о том, что обесчестил некую благородную девицу и теперь обязан жениться, пока последствия не проявили себя явным образом. Или что он переходит в православие, либо, тем паче, католичество и удаляется в монастырь.
Фрау Шарлотта посмотрела на него пристально, изучающе. Она знала, что, раз этот ее ребенок принял решение, то вряд ли когда он откажется от него откажется. И ничто его не может переубедить. «Ты уже подал рапорт?» – проговорила она медленно, выделяя каждое слово. «Идиот», – быстро подхватил, пользуясь паузой, ее старший сын. – «Какую ты там карьеру сделаешь? Здесь тебе через два года светил бы полк». «В гарнизоне», – усмехнулся Кристоф, радуясь втайне тому, что ему не придется сейчас давать ни утвердительного, ни отрицательного ответа матери. «Мы такие гордые, что нам и гарнизон не по нраву?» – брат измерил его с ног до головы. «Ты поссорился с кем-то?» – догадалась их мать. – «Неужели с Наследником?» От этого предположения все застыли в изумлении и ужасе. Служанка, вошедшая за общий стол с подносом в руках, поняла, что господам пока не до жаркого, поэтому осталась в дверях, глядя на возмутителя спокойствия. Кристоф снес эти взгляды.
«Мutti», – отвечал он. «Ежели бы такое случилось, то вы бы узнали об этом первой. Что же касается карьеры, то я не заинтересован в ней». Фрау Шарлотта возвысила голос – такое с ней случалось нечасто. Все инстинктивно вжали головы в плечи. «Не заинтересован? Кто тебя научил произносить такие слова? Какие-нибудь вольнодумцы? После всего, что я для вас – для каждого из вас! – сделала, ты, как неблагодарная свинья, смешиваешь мои деяния с грязью!» – она с шумом отодвинула от себя приборы. Потом, как ни в чем не бывало, скомандовала служанке на ломаном русском: «Марья, подавай жаркое».
Кристоф вынес эту гневную тираду. Аккуратно разнял сжавшие его рукав пальцы сестрицы Катхен, шептавшей: «Зачем ты так? Ну зачем? Она же тебя проклянет!» Словно отвечая на взволнованный шепот сестры, проговорил вслух: «Ежели вы, матушка, хотите меня проклясть и лишить наследства, то делайте это сейчас». Его старший брат встал из-за стола и угрожающе двинулся к нему. «Карл!» – снова повелительно произнесла фрау Шарлотта. «Оставь его». «Но, матушка…», – щеки ее первенца пылали праведным гневом. Остальные присутствующие сидели ни живы, ни мертвы. «Ты хотя бы о Катхен подумал!» – проговорил Фридрих, указывая на красноречивое положение юной баронессы Фитингоф, – она была на седьмом месяце беременности. «Карл. Ему двадцать лет скоро будет. Поздно», – проговорила мать семейства. – «Пусть поступает, как знает. Завтра ему придет счет – сколько всего он должен мне и вам. Ему остается только рассчитаться». «Это низко», – проговорил Кристоф. «Зато справедливо», – парировала фрау Шарлотта. «Итак, договорились», – он встал из-за стола, церемонно раскланявшись с ними. – «Вы отправляете мне счет, я думаю, как смогу по нему расплатиться, и только потом подаю рапорт о переводе меня в Гвардейский экипаж. Прощайте».
Его проводила потрясенная тишина. Он взял шинель из рук камердинера, вышел на улицу, подставляя пылающее лицо под мокрые снежинки, сыпавшиеся с низкого неба. Что ж, наверное, все он сделал правильно. К этому разговору Кристоф готовился не первую неделю. «Кристхен!» – он оглянулся и увидел своего второго брата Фридриха, который весь этот роковой разговор хранил ироническое молчание. «Я тебя понимаю». «Надо же», – усмешливо отвечал барон. «Но… только почему на флот?». «Потому что мне суша опротивела, положим», – проговорил Кристоф, уже высматривая извозчика. – «И вот эта погода». «Это понятно, но я бы на твоем месте отправился в наемники». «Кому я нужен?» – извозчик остановился, и младший из баронов фон Ливенов вскочил в него. «Кому-нибудь. Хоть австрийцам…», – проговорил напоследок Фридрих.
…По возвращению к себе на квартиру Кристоф нашел письмо. Конверт никак не подписан. Он раскрыл его. Выпала записка. Несколько фраз по-французски: «Те, кто ищут, обрящут. Тех, кого ищут, найдут. Не спеши и все придет». «Безумие какое-то», – подумал он, и спросил у своего камердинера, кто принес этот конверт, но не получил ответа. Возможно, чья-то шутка. На душе у него было неприятно после разговора с матерью. Когда он избавится от власти семьи? Когда он станет мужчиной, а не мальчиком? Глупая война со шведами, на которую его послали, не сделала его настоящим воином. Служба в Гвардии – тоже. Нужно нечто большее. Иногда он вспоминал увиденное давеча, в сентябре, в потайной комнате. После этого визита у него и появилось желание что-то поменять в своей жизни. И да, как-то прославиться. Почему-то ему казалось, что его будущее лежит совершенно не в той стране, которой уже третье поколение служили фон Ливены. Фрицхен предлагал идти в наемники – ерунда. Кристофу не хотелось никому служить. Тем более, за деньги. Поэтому он ухватился за идею о флоте. При случае, если вновь будет война с Портой или якобинцами (о возможности отправки экспедиционного корпуса к границам новоиспеченной Республики говорили уже не первый год, но воз оставался и ныне там – Государыня была слишком мудра, чтобы вмешиваться в мало касающиеся ее дела, к тому же, в Польше творилось невесть что), можно и отличиться. Такая служба предоставляла возможность увидеть свет. А этого Кристоф хотел более всего.
Он перечитал записку. «Нет, шутка чья-то. И где здесь смеяться?», – проговорил он, готовясь спалить ее на свечке. И только поднося листок к неверно колеблющемуся пламени, он разглядел – подпись-то на записке была. CR. Минутное воспоминание – таинственная комната в мерцендорфовской «часовне»; красный крест – или роза? – на холсте, и эти две буквы. Совпадение? Возможно. Может, обращение к нему? Он же Кристоф Рейнгольд. Тезка своего деда. Кстати, тот, возможно, сам нарисовал эту причудливую картину и подписал ее своими инициалами. Но тогда бы, по всем правилам, обращение поставили в начале – не в конце. И мало кто знал, что полное имя «Ливена-третьего» – Кристоф Рейнгольд. В семейных анналах, на форзаце матушкиного молитвенника он остался как Кристоф Генрих – остальные имена не вошли. Русские вообще вопросами имен своих немецких сослуживцев не озабочивались, переиначивая на свой лад – в Петербурге он звался Христофором Андреевичем. Так бы и обратились. А тут… Тайны какие-то.
Он спрятал записку в ящик стола, не в силах избавиться от нее. Да и имело ли это смысл? Но осталось общее чувство смутной тревоги. Или, скорее, предчувствия, что скоро все противоречия разрешатся. Кристофу долго ждать не пришлось.
CR (1826)
После одного памятного разговора, когда матушка вознамерилась отречься от меня из-за явно высказанного мною желания оставить службу в Гвардии, прошло не так много времени. Я со дня на день ожидал, что по почте счет мне пришлют и уже начал подсчитывать, кому и сколько я должен и какое количество свободных средств остается в моем распоряжении, но ничего не происходило. Возможно, матушка меня простила. А, может, разглядела, наконец, то, в чем я убедился неделей ранее.
…Когда нас только представили ко Двору и вписали в круг приближенных лиц, матушка собрала нас всех и строго-настрого сказала, чтобы мы молчали обо всем, что увидим, старались не вмешиваться и свое мнение не высказывать, даже если у нас его спрашивают. Также она посоветовала «друзей не заводить, и врагов, по возможности, тоже». Это один из немногих заветов моей родительницы, который я соблюдаю до сих пор. Ибо я видел, что творится с чересчур разговорчивыми и прямолинейными. Каюсь, у меня и ныне нет желания писать то, что я увидел. Хотя мои наблюдения, вероятно, уже могут быть отнесены в категорию исторических. Как-никак, с той поры прошло около 30 лет. Поэтому выскажусь.
И слепому было ясно, что die Alte Keizerin находится во вражде к своему единственному законному сыну и наследнику, которому вскоре было суждено стать моим государем. Малый и Большой Двор друг с другом практически не сообщались. Будущий государь Павел Петрович был бы счастлив участвовать в деле управления Империей, если бы над его вкусами и идеями не потешались придворные – от мала до велика. Его упрекали в пруссофилии, в чрезмерном почитании Фридриха Великого, в незнании окружающих реалий. Мать явно дала понять, что единственное, почему она его терпит – это его дети, будущее Империи. Die Alte Keizerin, питая далеко идущие планы, отобрала у него двух старших сыновей с намерением воспитать из них образцовых людей и государей. Дошло до того, что она переменила завещание, назначив Александра своим прямым наследником. Вероятно, государыня полагала, что проживет еще довольно долго, и ее сын умрет раньше нее. Или, что скорее всего, считала его столь же неспособным, как его отец Петр Федорович, думала объявить его таковым и отстранить от всяческого управления. Постоянное затворничество молодой великокняжеской четы в Гатчине доказывало реальность ее намерений.
Мы с братом Йоханом долгое время числились в «юных друзьях» великих князей Александра и Константина. У нас не было никаких официальных должностей (хотя Йохана впоследствии все же назначили адъютантом Александра Павловича), но нам давали понять, что мы должны быть рядом с ними всегда, вроде телохранителей. Нас записали в полк, личным шефом которого был старший из великих князей. Надо добавить, что, насколько добродетельным был (или, скорее, хотел казаться) Александр, настолько же распутным был Константин. Матушка несколько беспокоилась, что мы подпадем под влияние последнего, поэтому наказывала нам держаться от него подальше. Этот завет мы тоже исполняли весьма тщательно – сразу стало понятно, что с Константином лучше не связываться. Надавать пощечин или вызвать его к барьеру было невозможно и приравнивалось бы к l?se-majestе. Сглатывать обиды и позволять обращаться с собой как с последним холопом – значило, высказывать себя низкопоклонником, а не я, ни братик к таковым сроду не принадлежали. Иначе же этот великий князь общаться с людьми не умел. Что касается Александра, то мне даже удалось завоевать его доверие. Мы были одних лет, и во мне он видел доверенное лицо, почти что друга. Но после того, как он сообщил, что видел завещание в пользу себя и в обход своего отца, я горько пожалел о том доверии, которым до этого даже гордился.
Потом он спросил моего мнения. «Что мне делать, Ливен? Уступать ли отцу или покоряться воле бабушки?» – говорил великий князь, сжимая мою руку. Я отлично помню этот день. Длинные тени сумерек ложились на гобелены в малой гостиной. Прекрасное, ангельское его лицо было темно и печально. Что я мог ему ответить? Некоторое время я молчал, опустив глаза. От меня требовали, ни много ни мало, – решения судьбы России. Будет ли править Павел Петрович, известный уже мрачным и подозрительным нравом, любовью к муштре на прусский лад и ненавистью ко всему, что сотворила за 30 лет правления его мать – даже и к ее благим начинаниям? Сложно сказать, что ожидать от такого царствования. Но, по крайней мере, он уже взрослый и опытный мужчина. Мой юный венценосный друг, при всех его добродетелях – не более чем мальчик. Даже не слишком честолюбивый мальчик. Его учитель La Harpe, крайне просвещенный человек, заставил его верить в равенство всех людей, в золотые идеалы Руссо, в то, что никто не создан выше других и не имеет морального права ими управлять. Я сам тогда не был знаком с этими идеями – в те годы я предпочел оставаться при своем невежестве.
«Ваше Высочество. На Вашем месте я бы следовал порядку старшинства», – произнес я тихо. Это был первый, но не последний мой совет, который я давал этому государю. «Я тоже так полагаю», – отвечал Наследник в тон мне и приобнял меня. Как оказалось, с тех пор я завоевал его окончательное доверие и показал свою преданность. Но в то время мне об этом было невозможно узнать. Тогда я чувствовал, что замешался туда, куда не должен был и сказал то, что не должен был говорить. Неизвестно, кто еще знал про этот манифест-завещание. Возможно, я был первым и единственным хранителем этой тайны, кроме, естественно, особ, фигурирующих в этом манифесте. От того-то я и подумал, что мне стоит вообще скрыться. Желательно, где-нибудь в морях. Матери я тоже не мог открыться. Но, повторюсь, в конце концов ей тоже стало известно о завещании. Либо она догадалась. Потому-то меня и простила. Но все равно, мне давно уже хотелось иметь случай как-нибудь отличиться. Гвардейская служба в мирное время этих возможностей не предоставляла. Конечно, оставалась возможность записаться в гренадерский полк к брату – они стояли близ польской границы и входили в дивизию Суворова. В случае очередного мятежа в Варшаве и объявления войны основной удар придется на них. Но я все оттягивал свой перевод в Тульский пехотный, так как служить под началом Карла мне не очень-то хотелось. Вскоре мне выпал совершенно неожиданный шанс. Наверное, кто-то заметил, как я маюсь от непризнанности и тоски. Или, может быть, просто не хотел меня видеть слишком близко к Наследнику и Двору, что более вероятно…
Глава 2
Санкт-Петербург, декабрь 1793 года
После Рождества 1793-го Кристоф почувствовал – его жизнь постепенно и неуклонно меняется. Но в какую сторону – он понять не мог. Все чаще он вспоминал и о «часовне», и о записке, но запрещал себе долго предаваться подобным мыслям. Конечно, все это только совпадение – а его окружала реальная жизнь, включавшая в себя все то же самое, что и раньше: дежурства, разводы караулов, поездки в театр ко второму действию, пустопорожняя светская болтовня, ленивые взгляды женщин, скользившие по его хорошенькому лицу, воскресные визиты к матушке и сестрам. Чего желать более? Он знал, что, посмей заикнуться кому-то о том, что ему скучно и он не знает, куда податься дальше, получит предсказуемый ответ: «От добра добра не ищу». Или же: «Ничего, скоро ударим по полячишкам, тогда тебе будет весело».
Как всегда, разрешение проблемы пришло неожиданно. И очень быстро.
Ясным морозным утром 16 декабря, когда лютеране только закончили отмечать очередное Рождение Христа, его разбудил камердинер Якоб. Как всегда, тихонечко потрогал за плечо со своим: «Герр Кристхен, а герр Кристхен…» Собственно, этот Якоб был его другом детства еще тогда, когда «ничего этого», то есть, богатства и славы Ливенов, не было. С обретением богатства и славы матушка смилостивилась над латышом-сироткой и взяла его в услужение своим сыновьям, которые всегда относились к нему как к равному себе. Но нынче, когда хмель прошедшей веселой ночки весьма чувствительно давал о себе знать тошнотой и раскалывающейся головой, Кристофу захотелось проявить себя деспотом и надавать ему пощечин. Он сел в разворошенной постели, щурясь на пробивающийся сквозь щель между задернутыми шторами солнечный луч. Хорошо, сегодня никуда не надо было идти. Так, а что, собственно, вчера было? Фараон?… Ах, черт, если так, то сколько он проиграл?.. До квартиры дошел своими ногами или его Якоб увел? И не у кого спросить, кроме как у слуги. Почему так стыдно, кстати? Значит, точно сколько-то проиграл.
«Слушай», – проговорил Кристоф, глядя на лицо своего камердинера. – «Когда я вчера вернулся?»
«Да в четыре утра, барин…»
«А нынче сколько?»
«Уж полдень пробило»
«Mein Gott…»
Полдень. Если маменька вздумает допросить Якоба, то Кристофа ждет долгий выговор по поводу «беспорядочного образа жизни».
«Я вот к чему, герр Кристхен…», – осторожно начал Якоб.
«Принеси мне бумажник», – прервал он слугу. Тот только повиновался и покорно протянул ему исконное. Так. Деньги все на месте. Вроде бы. Если что и проиграно, то какая-то незначительная сумма, о которой даже и беспокоиться не стоит. И, если до полудня никто к нему не наведывался с требованием долга, то все хорошо. Хотя… Что это там Якоб вертит в руках? «Черт. Неужели я дал расписку?»
«Что это?» – он вырвал конверт из рук слуги. Надорвал, уже ожидая прочесть послание от счастливца, выигравшего у него дикие тысячи. Бегло пробежал глазами косоватые строки. Нет. Сухим, казенным тоном его извещали, что ждут в управлении штаба полка. «Час от часу не легче», – подумал юный барон. Эдакая срочность… Может быть все, что угодно. Возможно, новое назначение. «В гарнизон», – почти был уверен он. «Куда же еще». Или, что более вероятно в полк к брату. Маменька подсуетилась. Три года назад, когда он отправлялся на свое «боевое крещение», она всеми правдами и неправдами настояла на том, чтобы ее три сына были зачислены в один полк и чуть ли не в один батальон. «Держитесь всегда друг друга, – вы же братья», – торжественно говорила она перед их совместным отправлением в армию. Проблема была только в том, что его старший брат всячески пользовался тем, что теперь старший еще и по званию, а не только по возрасту, другой его брат совершенно не хотел возиться с «малышом Кристхеном», а самого Кристофа очень тяготило находиться еще и в семейном подчинении. Да и со стороны выглядело это комичным – приятели никогда не забывали поддеть по поводу «нянек», что злило как его, так и братьев. Если все повторится так, как тогда… А оно повторится, в этом Кристоф нынче даже не сомневался. Уже видел, как после этой беседы придется ему ехать к Карлу, стаскивать его с очередной шлюхи или будить с похмелья, выслушивать его ругань, а потом собираться и ехать к западным границам, останавливаясь в дурных корчмах, далее – постой в каком-то гадком местечке, докучливое ожидание войны, карты, провинциальные балы, вешающиеся от скуки на шею офицерам помещичьи жены и жеманные барышни, далее их всех сорвут в поход, а там никакой «виктории» и даже «славного дела», а шатание с тяжеленным ранцем и ружьем по колено в грязи, затем бой на часа два, атака, глупая рана, или, что еще вероятнее и глупее, некая заразительная болезнь. Все как на ладони. К гадалке ходить не надо.
«Якоб, дай-ка мне, что ли, одеваться», – проговорил он, зевая. Переодевшись, критично осмотрел себя – не слишком ли видны на лице следы вчерашних излияний? Ничто вроде не выдавало – хмель оставил лишь досадную головную боль.
…Через двадцать минут он, к своему удивлению, стоял на вытяжку вовсе не перед командиром полка, а перед тремя мало знакомыми ему генералами. И выслушивал, вроде бы, очевидное – его переводят адъютантом к одному из них, Римскому-Корсакову. Значит, он опять остается в Петербурге на неопределенный срок. И только он, откланявшись с довольно рассеянным новым своим принципалом, пошел, как его окликнули. Причем по-немецки. Кристоф оглянулся. Перед ним стоял человек в штатском. Высокий полный блондин, который также был ему смутно знаком. И причем даже не лично – а по портретам. Лицо его, собственно, и носило какое-то «портретное» выражение – слишком гладкое, слишком безмятежное. Иностранный крест виднелся в петлице его темного сюртука. И крест этот удивительным образом напоминал другой, виденный Кристофом на странной картине в заброшенной часовне.
«Знаю, для такого честолюбивого молодого человека, как вы, подобное назначение кажется аффронтом», – начал незнакомец с места в карьер. По-немецки он говорил очень хорошо, но видно, что этот язык не был для него родным. Выговор его напоминал остзейское наречение, но не то, которое барон слышал с детства и которым сам пользовался. Кристоф был настолько удивлен, что даже не нашелся, что ему на это отвечать, кроме как: «Простите, а с кем имею честь беседовать?..»
«Потом. Вы все узнаете потом», – проговорил его визави. – «И, конечно, не здесь. Заезжайте на Морскую, в пятый дом. Через два часа. Вас будут там ожидать».