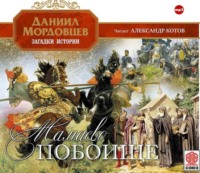Царь и гетман
А что было в Глухове, на раде, при избрании нового гетмана вместо него, Мазепы! Что было после рады! Вместо Мазепы избрали этого губошлепа Скоропадского, который и козакувал, и полковничал, и Богу молился из-под башмака своей Насти. Дождалась-таки Настя гетманства! Теперь ее, поди, и с коня рукой не достанешь… Фу, какая тоска! Как тошно жить на свете!
Еще рассказывал Демьянко про молебствие в Глухове, когда его, Мазепу, проклинали… Царь стоит такой сердитый, заряженный, высокий, как колокольня в Ромнах, и страшно озирается по сторонам; а лицо так и дергается, вот-вот увидит Демьянка! А попы, архиереи, протопопы, дьяки и сам царь выкрикивают над Мазепиным портретом, поставленным на эшафоте: «Клятвопреступнику, изменнику и предателю веры и своего народа, трепроклятому Ивашке Мазепе – анафема! Анафема! Анафема!» Ажно собаки жалобно и боязно завыли по Глухову от этого страшного пения… И везде теперь, по всей Украине, поют эту новую песню про Мазепу: «Анафема! Анафема!» А там «кат» привязал веревку к портрету и потащил его через весь Глухов на виселицу – и повесил… Далеко видна голубая Андреевская лента на повешенном под виселицею портрете… Долго висел там портрет, и вороны и «круки» слетались к портрету, думая клевать мертвое тело Мазепы. Нет, оно еще не мертвое! Вон на белом коне грузно сидит, сивым усом подергивает.
Да, невесело Мазепе, очень невесело. Уж и прежде, давно, он чувствовал себя одиноким, осиротелым, а теперь, здесь, около этого коронованного гайдамака, около короля пройдисвета, он увидал себя окончательно всеми покинутым. Почти все передавшиеся с ним этому шведскому чумаку полковники бежали от него к Петру: и Апостол Данило, и Галаган, и Чуйкевич, и Покотило, и Гамалия, и Невинчанный, и Лизогуб, и Сулима – все бежали к царю. Все повернулось вверх дном, и счастье Мазепы опрокинулось дном кверху и рассыпалось пылью… Что было вверху – стало внизу, а нижнее до облаков поднялось… Вон на какую высоту поднялась вдова Кочубеиха, обласканная царем; а он, Мазепа, упал с высоты и разбился. Вон и эти бродяги-шведы, видимо, уж не верят ему, следят за ним. Мазепа это чует своим лукавым сердцем, видит своими лукавыми глазами, хоть сам король пройдисвет и верит еще ему, да что в том толку! Мазепа уж себе не верит!
А она, голубка сизая, что с нею? Где она? Демьянко говорит, что видел ее в Киеве, в Фроловском монастыре: вся в черном она стояла в церкви на коленях рядом с игуменьею матерью Магдалиною, а когда проклинали Мазепу, вздрогнула и, припав головой к церковному помосту, горько плакала… О ком? О чем?
– Что беспокоит мудрую голову гетмана? – спросил вдруг Карл, заметив молчаливость и угрюмость Мазепы.
Захваченный врасплох со своими горькими думами, которые далеко унесли его от этой однообразной картины степи, с вечера присыпанной ярким, последним подвесенним снегом, Мазепа не сразу нашелся, что отвечать на вопрос короля, как ни был находчив его лукавый ум.
– Мою старую голову беспокоит молодая пылкость вашего величества, – отвечал, наконец, он медленно, налегая на каждое слово.
– Как! Quomodo, tantum?[80] – встрепенулся Карл.
– Вашему величеству угодно было лично отправиться в поле на поиски за неприятелем, и мы не посмели отпустить вас одного в сопровождении его светлости, принца Максимилиана и нескольких дружинников – ведь это не охота за зайцами, ваше величество… Мы можем наткнуться на московитов или на донских казаков…
– О, dux Sarmatiae![81] – засмеялся молодой король. – Для меня достаточно одного моего богатыря Гинтерсфельта, чтобы не бояться целой орды диких московитов. Гетман видел моего богатыря? Вон он едет рядом с старым Реншильдом.
И Карл показал на белобрысого, коренастого шведа с белыми веками и красным носом, глядевшего каким-то белым медведем.
– Этот добряк Гинтерсфельт удивительный чудак, – продолжал Карл. – Однажды, еще под Нарвой, будучи тогда простым солдатом, он должен был стоять на часах около своей батареи, но, соскучившись, забрался в шалаш маркитантши да и запьянствовал там. Я делал ночной объезд патруля и часовых и наткнулся на его батарею… Вдруг слышу, кто-то у шалаша испуганно говорит: «Король! Король!» И что же я вижу. Из шалаша выбегает Гинтерсфельт, схватывает пушку с лафета и делает мне пушкой на караул! Ружье-то он у маркитантши забыл впопыхах… Каково! Пушкой на караул!
Мазепа с удивлением посмотрел на богатыря, хотя и полагал, что Карл, по свойственной ему пылкости, преувеличивает, но отвечать ничего не отвечал, а только выразил немое удивление…
– А в деле мой богатырь просто клад! – продолжал увлекающийся король. – Он обыкновенно пронизывает своего противника мечом и перекидывает через голову. А раз в Стокгольме, проезжая под сводами городских ворот, он ухватился рукой за вделанный в сводах крюк и приподнял себя вместе с лошадью!
– Ах, как смешно, я думаю, болтала бедная лошадь ногами в воздухе! – не вытерпел юный Максимилиан.
– О, нет, мой Макс, далеко не смешно: она взбесилась с испугу и помяла нескольких солдат. С тех пор я и не велел моему геркулесу так опасно шалить… Но как долго зима стоит у вас в Сарматии, точно у меня в Скандинавии, – нетерпеливо обратился Карл к Мазепе.
– Да, ваше величество, это небывалая зима: я такой и не запомню у нас в Малороссии; а живу уже я давно… Вот уж скоро апрель, а поле вновь покрылось снегом, точно зимою, невиданная зима!
– Скорее бы тепло! А то мои люди болеют и мрут от этой стужи, хоть они и привычны ко всему… Скорее бы до Запорожья добраться, а там и крымцев перетянуть на свою сторону; и уж тогда, побывав в Азии, затоптав следы Александра Македонского, как выражается мой юный друг Макс, мы из Азии ринемся на Москву, а из Москвы к Неве и с берегов Невы загоним нашего любезного братца Петра в Сибирь, на берега Иртыша, пусть он там владеет царством Кучума, которое завоевал для его прапрадеда храбрый Ермак… Я хочу быть для Москвы новым Тамерланом и буду! Я не потерплю, чтобы Петр распоряжался в моих наследственных землях. Я ссажу его с престола, как ссадил Августа с трона Пястов[82]. Я напомню ему, что не он потомок Рюрика, а я!
Карл был сильно возбужден. Ломаные брови его поднялись еще выше, глаза остоячились, он был весь нетерпение. Приближенные его знали упрямую порывистость своего короля, знали, что противоречие и даже спокойное советование ему того или другого толкало эту упругую волю неугомонного варяга на совершенно противоположные решения, и молчали: если б ему сказали, что это невозможно, то непременно получили бы ответ: «Я именно и хочу сделать невозможное».
В это время Орлик, отделившись от общей группы и делая какие-то знаки Мазепе, поскакал к видневшейся в стороне «могиле», высокому степному кургану.
– Что он? Куда поскакал? – спросил удивленный Карл, обращаясь к Мазепе.
– К кургану, ваше величество, чтобы с возвышения осмотреть окрестности.
– А какие знаки он делал руками?
– Он просил ваше величество остановиться на минуту.
– Хорошо… Но и я сам хочу видеть то, что он увидит, – упрямился Карл.
– Конечно, ваше величество… Но вам неизвестны наши казацкие приемы в подобных случаях.
– А что? Какие приемы?
– Вон изволите видеть…
И Мазепа показал на Орлика. Этот последний, подскакав к кургану, соскочил с лошади, забросил поводья за седельную луку, а сам ползком стал взбираться на курган. Все остановились и ждали, что из этого выйдет. Доползши до вершины, Орлик вынул из кармана что-то белое вроде полотенца и накрыл им свою голову.
– Это, ваше величество, чтобы голова не чернела, чтоб издали от снега нельзя ее было отличить, – пояснил Мазепа.
Несколько минут Орлик оставался в лежачем положении, с несколько приподнятою головой. Наконец, он сделал какое-то движение, огляделся во все стороны и опять ползком спустился с кургана.
– Что нам скажет почтенный скриба войсковой? – с улыбкой спросил Карл, когда Орлик снова прискакал к группе.
– Я заметил в отдалении нечто вроде отряда, ваше величество, – почтительно отвечал Орлик, как и Мазепа, на хорошем латинском языке.
– Отряд? Тем лучше! – обрадовался неугомонный варяг. – Arma! Arma!..[83]
– Arma virumque cano[84], ваше величество! – улыбаясь своими серьезными глазами, добавил Орлик.
– О! Это начало Вергилиевой «Энеиды»… Прекрасно почтенный скриба (Карл любил цитаты из классиков, и Орлик с умыслом сослался на Вергилия). Вы хорошо владеете языком Цезаря: я не забыл вашей латинской прелиминарской договорной статьи, присланной моему министру графу Пиперу…
Орлик поклонился. Мазепа снова угрюмо молчал, косясь на Карла. Его беспокоило привезенное Орликом известие о появлении какого-то отряда.
– Так прикажите, ваше величество, нам ближе рассмотреть, что это за отряд, – не утерпел он, – может статься, это неприятель.
– Тогда мы на него ударим, – поторопился нетерпеливый король.
– Непременно, ваше величество, только прежде узнаем его силу.
– Я никогда не считаю врагов! – заносчиво оборвал Карл.
– Но быть может, это наши друзья, ваше величество, – вмешался старый Реншильд.
– Хорошо. Так узнайте.
Тогда Мазепа, Орлик, принц Максимилиан, Гилленкрук и «белый медведь» Гинтерсфельт отделились от группы и поскакали к стогу сена, черневшемуся в том направлении, куда указал Орлик. Юный Максимилиан со слезами на глазах умолял короля позволить ему участвовать в этой неожиданной маленькой экспедиции, и Карл отпустил его. Прискакав к стогу, они увидели, что ниже, в пологой ложбине, бурлит речка, которой они издали не могли заметить, и что хотя ночью и выпал снег, а к утру подморозило, однако реченька не унималась и делала переправу на ту сторону невозможной. Речка эта, по-видимому, изливалась в верховье Сейма, по ту сторону которого лежал путь от Воронежа на Глухов, пересекая Муравский шлях.
Скоро из засады, из-за стога сена, можно было различить, что по ту сторону речки по гладкой равнине действительно пробирался небольшой отряд. Зоркий глаз Орлика тотчас же уловил то, что было нужно знать: в отряде виднелись и донские казаки с заломленными набекрень киверами, и московские рейтары. Они сопровождали пару больших колымаг. Скоро этот отряд с колымагами так приблизился к реке, что из засады можно было даже различать уже лица этих неведомых проезжих. В передней колымаге сидел ветхий старик, высунувший голову и, по-видимому, глядевший на бурливую речку. Из-за его головы виднелась голова женщины.
Орлик вздрогнул даже, увидав старика.
– Та се сам сатана! – невольно вырвалось у него восклицание.
– Хто, Пилипе? – с не меньшим удивлением спросил Мазепа.
– Та сатана ж: Палий!
Мазепа задрожал на седле и тотчас схватился за дубельтувку, висевшую у него на левом плече. Взведя курок, он выехал из засады; за ним выехали и другие. Казаки, сопровождавшие колымаги, увидав засаду, осадили коней.
Мазепа ясно увидел, что из колымаги на него смотрит Палий! Как ни было велико между ними расстояние, но враги узнали друг друга.
– Га! Здоров був, Симене! – хрипло закричал Мазепа. – А ось тоби гостинец!
Дубельтувка грянула. Мазепа промахнулся.
– Га! Сто чортив тоби та пекло! – бешено захрипел он и снова выстрелил и снова промахнулся, проклиная воздух.
На выстрелы с той стороны отвечали выстрелами, но тоже бесполезно: слишком велико было расстояние для тогдашнего оружия.
На выстрелы прискакал Карл с своею свитою. Но было уже поздно: колымаги и сопровождавшие их конники скрылись за небольшим пригорком.
Мазепа молча погрозил в воздух невидимо кому…
XII
Квартируя с своим войском в Малороссии всю зиму 1708–1709 года, Карл постоянно порывался то пробраться на юг, в Запорожье, в союзе с запорожцами и крымцами пройти потом с огнем и мечом вдоль и поперек Московии, столкнув Петра, как лишнюю фигуру с шахматной доски; то, загнув в самую Азию, оттуда прошибить железным клином владения Петра и прищемить его опять к стенам Нарвы, как черного таракана; то, наконец, волком забраться в его овчарню, в корабельное гнездо в Воронеж, и там придавить его вместе с его игрушечными кораблями. И в этих-то мечтаньях беспокойный варяг и теперь, в тот день, как увидели мы его с Мазепой, Орликом и другими, далеко отбился от своего войска с небольшим отрядом, для того чтобы облегчить свою беспокойную душу и охолодить немного свою горячую «железную башку» хотя тем, что вот-де понюхал-таки он, чем это там поближе к корабельному гнезду пахнет и какая это там Сарматия. В эту-то безумную, бесполезную экскурсию свита его и натолкнулась на Палия, который, будучи возвращен Петром из ссылки с Енисея и обласканный им в Воронеже, возвращался теперь на свою дорогую Украину, которой он уже не чаял видеть у преддверия своей могилы.
Нечаянная встреча с Палием заставила задуматься и Карла, и Мазепу. Если Палий возвращен царем из ссылки, то как он очутился в этой половине Малороссии, в самой восточной? Почему он не следовал из Сибири на Москву, а оттуда на Глухов или прямо в Киев? Что заставило его проехать гораздо ниже и перерезать Муравский шлях? Одно, что оставалось для решения этих вопросов, это то, что сам царь теперь где-нибудь тут, в этой стороне, и скорее всего, что он в Воронеже. Очень может быть, что он с этой стороны намерен с весны начать наступление, и тогда надо во что бы то ни стало занять крепкую позицию на Днепре, упереться в него и сделать его базисом операционных действий. Мазепа так и действовал: он говорил, что надо укрепиться в Запорожье. «Это гнездо, из которого всегда вылетали на Московскую землю черные круки, а теперь из этого гнезда вылетит сам орел», – пояснил Мазепа, называя орлом Карла. Карлу и самому нравилась эта мысль; но какая-то варяжская непоседность, жажда славы и грому подмывала его побывать и нагреметь разом везде: и в Европе, и в Азии, и, пожалуй, за пределами вселенной.
«Вот чадушко! – думал иногда Мазепа, глядя на беспокойное, дерзкое лицо Карла с огромным, далеко оголенным лбом и с высоко вздернутыми бровями, какие рисуются только у черта. – Вот чадо невиданное! И лоб-то у него точно у моего цапа, что проклятые москали съели в Батурине, этим лбом он и барася моего сшиб с ног… Вот уж истинно медный лоб!»
Далеко за полдень воротился Карл с своею свитою из описанной выше сумасбродной экскурсии. Подъезжая к своему лагерю, он заметил в нем необыкновенное движение, особенно же в лагере Мазепы, расположенном бок о бок с палатками шведских войск. Видно было, что казаки и шведские солдаты бросали в воздух шапки и шляпы, что-то громко кричали, смеялись, обнимались с какими-то всадниками, спешившимися с коней. Гул над лагерем стоял невообразимый. Лошади ржали как бешеные, точно сговорились устроить жеребячий концерт.
– Что это такое? – с удивлением спросил Карл, осаживая коня.
– Я и сам не знаю, ваше величество, что оно означает, – с не меньшим недоумением отвечал старый гетман. – Разве пришло из Польши ваше войско, так нет: это, кажется, не шведы. Не пришло ли подкрепление от турок?
– Нет, султан что-то ломается, должно быть, Петра боится.
– Так крымцы…
– Не гоги ли и магоги пришли мне на помощь против Александра Македонского? – шутил Карл, который вечно шутил, даже тогда, когда вел тысячи своих солдат на верную смерть.
– О, нам бы и гоги и магоги пригодились, – пасмурно отшатнулся Мазепа.
Орлик, не дожидаясь разъяснения загадки, пришпорил коня, понесся было вперед, светя красным верхом своей шапки, но, проскакав несколько и приблизясь к группе всадников, ехавших к нему навстречу, он всплеснул руками и остановился как вкопанный: прямо на него скакал какой-то рыжеусый дьявол и широко раскрыл руки, словно птица на полете.
– Пилипе! Друже! – кричал рыжеусый дьявол.
– Костя! Се ты!
– Та я колись був, голубе.
– Братику! Голубе!
И, не слезая с коней, приятели перегнулись на седлах, обнялись и горячо поцеловались. Только кони под ними, как оказалось, не были приятелями: они заржали, одыбились и, как черти, грызли друг дружку.
Подскакал и Мазепа, которого подмывало нетерпение…
– Гордиенко! Батьку отамане кошовый! – закричал он радостно
– Пане гетьмане! Батьку ясновельможный! – отвечали ему.
– Почоломкаемось, братику!
– Почоломкаемось…
И они начали целоваться, несмотря на грызню бешеных коней.
– Як! До нас с Запорогив!
– До вас, пане гетьмане, до вашои коши…
Подъехал и Карл со свитой. Мазепа тотчас же представил ему усатого дьявола, по-видимому, большого охотника целоваться хоть с казаками. Да и неудивительно: усатый дьявол был запорожец, а у них насчет бабьего тела строго… Поцеловал только бабу, либо ущипнул, либо за пазуху ненароком забрался – зараз «товариство» киями накормит: потому закон такой на Запорожье, этакого скоромного, бабьятины, чтобы ни-ни! Ни боже мой!
– Имею счастье представить высочайшей потенции вашего королевского величества кошевого атамана славного войска Запорожского низового, Константина Гордиенко, – сказал Мазепа церемонно, официальным тоном.
Гордиенко, осадив коня, сидел в седле, словно прикованный к нему, жадно вглядываясь своими маленькими, узко разрезанными, как у калмыка, глазками в того, кому его представляли. Лицо Гордиенки смотрело так добродушно, и не шло к нему другое имя, как Костя: немножко вздернутый кирпатый нос изобличал какую-то детскость и веселость; загорелые круглые щеки скорее, кажется, способны были покрываться у него краской стыдливости, чем гнева; только рыжие усищи, спадавшие на широкую грудь длинными жгутами, как-то мало гармонировали с этим добродушным лицом и точно говорили: по носу – добрый человек, а по усищам – у! – бедовый козарлюга! Самому чертяке хвост узлом завяжет…
Сказав первую фразу к лицу короля, Мазепа повернулся к кошевому и спросил по-украински:
– Кланяешься, батьку отамане, его величеству королю славным войском Запорожским?
– Кланяюсь, – был ответ. И кошевой низко склонил голову перед Карлом.
– Dux Zaporogiae[85] Константин Гордиенко кланяется вашему величеству славным войском Запорожским! – торжественно перевел Мазепа королю поклон кошевого.
– Душевно рад! Душевно рад! – весело, с необычайным блеском в сухом взоре отвечал Карл. – А сколько у вас налицо славных рыцарей? – спросил он, обращаясь к кошевому.
Тот молчал, наивно поглядывая то на короля, то на Мазепу, то на Орлика, как бы говоря: «Вот загнул загадку, собачий сын!
– Он, ваше величество, понимает только свою родную речь, – поспешил на выручку Мазепа.
Шум усиливался. Запорожцы, целовавшиеся с своими приятелями казаками-мазепинцами, заметив или, скорее, догадавшись, что это король приехал, и увидав знакомые лица Мазепы и Орлика, шумно закричали: «Бувай здоров, королю! Бувай здоров на многие лита!»
– Это они приветствуют ваше величество, – пояснил Мазепа.
Карл, у которого лицо дергалось от волнения и брови становились совсем торчмя, двинулся к запорожцам в сопровождении графа Пипера, старшего Реншильда, белоглазого Гилленкрука, медведковатого Гинтерсфельта и розового Максимилиана, обводя глазами нестройные толпы храбрых дикарей и приветствуя их движением руки.
Пришельцы действительно смотрели не то дикарями, не то чертями: все, по-видимому, на один лад, но какое разнообразие в частностях! Шапки – невообразимые, невообразимых размеров, высот, объемов и цветов, и между тем это нечто вроде цветущего маком поля, что-то живое, красивое. А кунтуши каких цветов, а штанищи каких цветов, широт и долгот! Это что-то пестрое, болтающееся, мотающееся, развевающееся по ветру, бьющее эффектом… А шаблюки, а ратища, а самопалы, а чеботы всех цветов юхты и сафьяну!.. Только настоящая воля и полная свобода личности могли выработать такое поражающее разнообразие при кажущейся стройности и гармоничности в целом… Тут есть и оборванцы; но и оборванец чем-нибудь бросается в глаза, поражает: или усищами необыкновенными, или невиданными чеботищами, или ратищем в оглоблю, или чубом в лошадиную гриву…
Карл радовался, как ребенок. Ему казалось, что он видит настоящих Геродотовых сарматов, рожденных львицами пустыни, вскормленных львиным молоком. Что бы было, если б таких чертей увидала Швеция, Европа; и эти черти сами пришли к нему…
– Что, старый Пипер? Что, Гинтерсфельт? Вот с кем потягаться! – обращался он то к Пиперу, то к своему «белому медведю» Гинтерсфельту, то к сухоносому Реншильду.
А что касается до юного Максимилиана, так он глаз не сводил с невиданных усищ Кости Гордиенки да с одного страшенного чуба, который казался чем-то вроде лошадиного хвоста, торчавшего из-под смушковой конусообразной шапки запорожца в желтой юбке… Но это была не юбка, а штаны, на которые пошло по двенадцать аршин китайки на каждую штанину.
На радостях Карл приказал задать пир запорожцам на славу. Тут же среди лагеря поставили нечто вроде столов – доски на бревнах, изжарили на вертелах почти целое стадо баранов, недавно отбитое у москалей, выкатили несколько бочек вина, нанесли всевозможных ковшей, мис и чар для питья, и началось пированье тут же, на воздухе, тем более что солнце стало порядочно греть и весна брала свое.
Тут же поместился и Карл с своим штабом и со всею казацкою и запорожскою старшиною.
Обед вышел необыкновенно оживленный. Карл был весел, шутил, перекидывался остротами с графом Пипером, трунил над старым Реншильдом, заигрывал посредством латинских каламбуров с Мазепой и Орликом, которые очень удачно отвечали то стихом из Горация, то фразой из Цицерона; шпиговал своего «белого медведя», который, не обращая внимания на шпильки короля, усердно налегал на вино. Даже Мазепа повеселел, и, когда увидел, что около одного из отдаленных столов какой-то ранний запорожец уже выплясывает, взявшись в боки, и приговаривает:
Ходе пан, ходеИ задком и передком,Ходе пан, ходе,Паню за хвист воде,—развеселившийся гетман, указывая на пляшущего казака, сказал Карлу:
– Да, ваше величество,
Nunc est bibendumNunc pede liberaPulsanda tellus…[86]Пляшущий за королевским столом запорожец особенно понравился Карлу. Желая выразить в лице плясуна свое монаршее благоволение всему свободному запорожскому рыцарству, король сам наполнил венгерским огромную серебряную стопу работы Бенвенуто Челлини и приказал Гинтерсфельту поднести ее импровизированному свободному художнику в широчайших штанах на «очкуре» из конского аркана. Когда Гинтерсфельт, переваливаясь как медведь, приблизился к плясуну, выделывавшему ногами удивительные штуки, и протянул к нему руку со стопою, запорожец остановился фертом и ждал.
– Чого тоби? – спросил он вдруг, видя, что швед молчит.
– Та пий же, сучий сын! – закричали товарищи.
Запорожец взял стопу, взглянул на Гинтерсфельта веселыми, как у ребенка, глазами и, сказав: «На здоровьечко, пане», опрокинул стопу в рот, словно в пропасть. Потом, полюбовавшись на стопу и лукаво пояснив: «У шинок однесу», опустил ее в широчайший карман широчайших штанов, откуда у него торчала люлька и болталась «китиця» от кисета с тютюном, тщательно обтер рот и усы рукавом и полез целоваться со шведом…
– Почоломкаемось, братику!
– Добре! Добре, Голото! – кричали пирующие. – Ще вдарь, ще загни, нехай вин подивиться!
И Голота, это был он, «вдарил» и «загнул», снова «вдарил» и ну «загинать», спиной, ногами, каблуками, всем казаком «загинал»!.. А Гинтерсфельт, неожиданно поцелованный запорожцем, стоял с разинутым ртом и только хлопал глазами, поглядывая на казацкие штаны, в которых громыхала королевская стопа… «Вот тебе и стопа, вот тебе и тост!» – выражало смущенное лицо шведа.
А Голота, увлекаясь собственным талантом, вошел в такой азарт, что вместо ног пустил в ход руки и, опрокинувшись торчмя вниз головой, так что чуб его стлался по земле, стал ходить и плясать на руках, выкидывая в воздухе ногами невообразимые выкрутасы и хлопая красными, донельзя загрязненными чоботами друг о дружку.
Во время этих операций из кармана штанов его посыпались наземь кремень и «кресало», люлька и кисет, моченый горох, которым он раньше лакомился, и сушеные груши. Вывалилась из кармана и королевская стопа. Гинтерсфельт, увидав ее, нагнулся было, чтобы поднять драгоценный сосуд, но Голота остановил его словами: «Не рушь, братику» – и, собрав с земли свои сокровища, снова пустился в пляс, но только уже не на руках, а на ногах.
Не утерпели и другие казаки, повскакивали с земли, расправили усы, подобрали полы, взялись в боки и ну садить своими чеботищами землю. Тут была и молодежь, и седоусые старики. Тем поразительнее была картина этого необыкновенного пляса, что старики вывертывали ногами всевозможные выкрутасы молча, посапывая только и с серьезнейшим выражением на своих смурых, седоусых лицах, словно бы этот пляс составлял для них нечто вроде исполнения общественного, громадского долга и словно бы они, выкидывая своими старыми, но еще крепкими ногами трепака, должны были показать той молодежи в вечное назидание, что вот-де так-то пляшут гопака старые люди, что так-де плясали ее отцы и деды испокон века, как и земля стоит, и что так-де следует выбивать этого гопака «поки свить сонця».