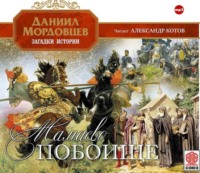Замурованная царица. Иосиф в стране фараона (сборник)
– О Уат-Ур! Божественный Уат-Ур! – восклицали некоторые из его свиты, тоже никогда не видавшие моря, при виде безбрежного водного горизонта и набегавших на берег пенистых волн грозной стихии.
Иосиф долго стоял в немом созерцании величавой картины, потрясенный сознанием своего ничтожества перед тою неведомою силою, которая создала все это, которая держит в своей длани океаны, такие водные пространства, перед которыми ум цепенеет! Ничего подобного он представить себе не мог… Что же там, дальше, за этими водами? Да и есть ли конец им? Что держит их там, где они сливаются с небом, и как не прольются они там в неведомую бездну?
В этот самый момент багровый диск солнца как раз опускался в море… Вот он тонет, тонет, тонет… Солнце погружается в страшную таинственную бездну… Утонуло, утонуло, бросив к небу последний сноп лучей.
Благоговейный ужас сковал душу Иосифа… Он даже в уме не смел теперь произнести имя Того, Который все это создал и всем этим правит… А прежде, не ведая этого Его величия, он, ничтожный, дерзал обращаться к Нему…
И как жалки, как ничтожны и презренны показались ему теперь все боги Египта! Боги! Жалкие каменные и золотые истуканы, быки, крокодилы, кошки, змеи! И это боги!
– Горус утонул! Светоносный Горус утонул! – послышались испуганные возгласы из его свиты.
– Но он завтра утром вынырнет из моря Сукот[31], – успокаивал испуганных голос жреца, находившегося в свите.
– Как же он, под землей пройдет? – спросил кто-то.
– Да, он пройдет царством Озириса, осветит все души отошедших в область Озириса, в прекрасную страну Запада, и завтра, обновленный, выйдет из моря Сукот в образе светоносного Ра, – отвечал жрец.
Все остались весьма довольны таким объяснением; только Иосиф горько улыбнулся. На небе одна за другой загорелись звезды.
Наутро «Изида» с попутным восточным ветром поплыла вдоль берега дельты к устью западного рукава Нила, или к «левой ноге Озириса». К полудню ветер стал крепчать. По морю стали ходить сердитые волны с белыми гривами. Вчера прекрасное и величественное, море теперь стало страшным: кругом ревели волны, словно львы пустыни. Огромный корабль несло по гребням водяных гор словно жалкую ореховую скорлупу. Снасти выли и трещали, и только опытные руки кормчего, старого финикиянина, врожденного моряка, да усилия матросов, из пленных же финикиян, спасли «Изиду» от верной гибели и ввели в безопасную бухту, в «ступню левой ноги Озириса».
В этой страшной буре, в завывании ветра, в грохоте волн Иосиф слышал гневный голос Того, Кого он не смел называть…
«Неужели это за Асенефу? – с ужасом думал он. – Неужели это кара за то, что я соединился с язычницей?»
Но корабль благополучно вошел в бухту, и Иосиф со слезами благодарил Того, чье имя он не смел произнести… Только теперь он понял Его непостижимое величие и Его великую, как это море, благость.
Восемь месяцев употребил Иосиф на обозрение области Гесем и всего Нижнего Египта и на выполнение всех сложных задач, сопряженных с его высокою и ответственною миссиею. Возвращаясь вверх по Нилу к Мемфису, чтоб лично доложить фараону о том, что им сделано, Иосиф, конечно, не мог не заехать в Гелиополис для свидания со своей молоденькой женой, которая страстно ожидала его. Но когда он, окруженный уже значительно поредевшей свитой, большую часть которой он оставил в многих городах дельты в качестве своих доверенных лиц, въезжал в Гелиополис и когда для встречи его опять выступила процессия жрецов с Аписом-Мневисом во главе, его удивило, что впереди процессии он уже не видел прелестной Асенефы с золотым серпом и снопом пшеницы, а вместо нее выступала с этими атрибутами божества другая юная жрица… Он, впрочем, тотчас же догадался, что Асенефа, как замужняя женщина, уже не могла выступать в процессии в качестве весталки-девственницы и потому ее заменяла другая юная девственница. На этот раз священный бык вел себя как-то странно: несмотря на то что его и теперь, в ожидании процессии, порядочно проморили голодом, он шел как бы неохотно, часто останавливался и смотрел по сторонам своими добрыми, как будто недоумевающими глазами, точно ища кого-то. Это заметили в толпе.
– Что это сделалось с великим богом? – слышались недоуменные голоса. – Он идет неохотно.
– Он как будто ищет кого… Это к добру ли? Не готовится ли нашему городу какого несчастья?
– Нет, – отвечал один из жрецов, – великий бог не видит своей любимицы, Асенефы, дочери святого Петефрия, к которой он так привык; а Асенефе, как недевственнице, теперь уже нельзя быть носительницей священных серпа и снопа.
Это объяснение несколько успокоило толпу. Но когда Иосиф сошел со своей царственной колесницы и стал подходить к процессии, Апис заметил его и, по-видимому, узнал: несмотря на усердное подкуривание его великим жрецом, бык быстро пошел вперед, рогами отстранил от себя Петефрия с кадильницей, торопливо прошел мимо юной жрицы с серпом и снопом и остановился перед Иосифом, ласково, но как бы вопрошающе глядя на него недоумевающими глазами.
Иосиф стал гладить добродушного рогатого бога. Толпа радостно заволновалась.
– Бог дает гладить себя! – послышались голоса. – Бог любит адона Иосифа! Слава великому богу Мневису! Слава адону Иосифу! Слава мужу Асенефы!
– Он соскучился по Асенефе, – шепнул Петефрий Иосифу, – он думает, что она с тобой. С тех пор как Асенефа твоя жена, бог не видел ее и скучал по ней, а она, по нашим законам, уже не могла служить ему, кормить и гладить его.
Когда же Иосиф, приняв от новой жрицы серп, отрезал им от снопа пучок колосьев и подал их Апису, проголодавшийся бык охотно и даже жадно стал жевать вкусный корм.
Х
Иосиф недолго оставался в Гелиополисе. Он должен был спешить в столицу для доклада фараону о результатах своей поездки в область Гесем и в Нижний Египет, и потому дня через три, простившись со своей молоденькой женой, уже переставшей стыдиться своего «уродства» и заливавшейся горькими слезами, он скрепя сердце должен был спешить в Мемфис со смутной тревогой за благополучный исход родов жены-полуребенка.
Фараон принял своего любимца необыкновенно милостиво, наскоро выслушал его доклад, потому что все мысли повелителя Египта были в это время сосредоточены на предстоявшей ему охоте на появившегося около Меридова озера гигантского гиппопотама, и даже, чтобы доказать Иосифу свое особое благоволение, пригласил и его на охоту, однако Иосиф, не любивший этих кровавых удовольствий и считавший их приличным одним людоедам, отклонил от себя эту высокую честь, сославшись на то, что должен немедленно ехать в Верхний Египет для обозрения всей долины Нила и для необходимых переделок в самом «ниломере».
Действительно, в тот же день Иосиф отплыл на юг все на том же корабле «Изида», по-прежнему окруженный огромною свитою. Как и в Нижнем Египте, его везде встречали с царскими почестями. Процессия жрецов с местными божествами во главе выходила в каждом городе приветствовать его. В каждой области, или хесепе, он осматривал гидравлические сооружения, каналы, плотины, шлюзы, с помощью своих техников назначал места для новых оросительных каналов и запруд, закладывал новые здания для житниц или приказывал ремонтировать старые; находившиеся при нем землемеры и писцы, вооруженные тростниковыми перьями и свитками папирусов, вписывали в последние количество орошаемых полей, размеры собираемого с них хлеба и овощей, количество скота и т. д. Все государственное хозяйство получало, таким образом, полный инвентарь.
Наконец, экспедиция Иосифа вступила в самый южный хесеп страны фараонов, в хесеп Тахонт, в пределах нынешней Нубии, где находились великие водопады Нила и знаменитый «ниломер», устроенный еще при фараоне первой династии и обновленный при фараоне двенадцатой династии, Аменемхате.
Не доезжая водопадов, экспедиция должна была остановиться, потому что далее «Изида» следовать не могла и дальнейший путь нужно было совершать на ослах, ведомых черными как уголь туземцами. Это были совершенно нагие люди, с волосами наподобие шерсти и с кинжалами и дротиками. Кругом расстилалась мертвая пустыня с обнаженными из-под ярко-желтого песка огромными плитняками. По всему пути, вправо и влево, белели на ослепительном солнце кости людей и животных, погибших от зноя или растерзанных львами пустыни. Солнце стояло прямо над головами, совершенно не бросая тени, и жгло невыносимо. Издали доносился глухой рев порогов.
И здесь, как и при виде безграничности вод моря, душу Иосифа охватил ужас перед величием неведомого Бога. Что перед ним все боги Египта!
Вдали виднелись черные скалы, из-за которых сверкали воды таинственного Нила. Местность становилась все печальнее и мрачнее. Среди гула порогов слышался жалобный клекот орлов пустыни.
– О священная река! – воскликнул кто-то из свиты. – Говорят, что воды его низвергаются прямо с неба.
При этом восклицании Иосиф вспомнил слова своего старого учителя Тутмеса, низверженного верховного жреца богини Мут.
«Я проследовал вдоль этой непостижимой реки вверх, на тысячи верст, – говорил он однажды, – и глаза мои устали от видения дивных мест и предметов, дух мой изнемог от восприятия всего виденного, и я все-таки не достиг истока Нила!»
По мере дальнейшего движения каравана Иосифа грохот падающих вод становился все могущественнее и заглушал и говор людей, и клекот орлов. Пенистые массы воды, со стремительной быстротой низвергаясь с отвесных скал в пропасть, с ревом разбивались о подводные камни, прыгали как оживотворенные, крутились коловоротами, как бы силясь кого-то догнать или с ужасом от кого убегая. Над пучиной поднимались облака водяной пыли, и в них иногда переливались и исчезали все цвета радуги. Черные проводники что-то кричали, размахивая руками, но ничего не было слышно.
– Асенефа, жена моя! – шептал про себя Иосиф. – Ты просила, чтобы я взял тебя с собой; но, бедное дитя, ты бы не вынесла ни этого пути, ни этих ужасов.
Он вспомнил, что Асенефа давно уже должна была родить.
– Но кого? – спрашивал он себя. – Сына или дочь? Я верю Богу отцов моих, что Он пошлет мне сына.
Иосифа озабочивало то обстоятельство, что гонцы, которых он отправил из Фив с некоторыми донесениями к фараону и с письмом к Асенефе, до сих пор не возвращались. Благополучно ли были роды его молодой жены? Здорова ли она?
С этими мыслями он миновал водопады Нила, глубоко потрясенный всем виденным. Думал ли он когда-то, созерцая горы и долины Ханаана, что судьба готовит ему то, что уже совершилось в его жизни? Мог ли он ожидать, что волею неисповедимого Бога он поставлен будет лицом к лицу со всеми виденными им чудесами, с этим поразительным явлением природы?
– А вот и Семне, – услышал он голос из свиты, – хвала Амону-Ра! Конец нашим странствиям.
– Хвала светоносному Горусу! Хвала матери Гатор! Хвала великой Мут, матери богов! – подхватили другие голоса.
Караван Иосифа подъезжал к крепости Семне, стоявшей на берегу Нила и оберегавшей от чернокожих обитателей земли Куш как южные границы Египта, так и устроенный здесь «ниломер» фараона Аменемхата III, «ниломер», погибшие записи которого помогли когда-то жрецу Тутмесу похитить у Нила тайну его разливов.
В Семне уже знали о приближении к крепости первого сановника и наместника фараона, и потому навстречу Иосифу вышел жрец, предшествуемый двумя молодыми страусами. Птицы выступали мирно, словно солдаты, высоко подняв свои головы на длинных шеях.
– Птицы нильского подводного бога Сет приветствуют великого адона фараонов! – проговорил жрец, подавая Иосифу золотые ключи на блюде из слоновой кости и звеня систром[32].
То были ключи от крепости. Едва жрец проговорил свое приветствие, как страусы издали какой-то пронзительный крик, и из воды Нила, на берегу которого все это происходило, показалась чудовищная голова громадного крокодила.
Чудовище, сверкнув своими отвратительными маленькими глазками, выползло на берег и медленно приближалось к тому месту, где стояли Иосиф и жрец с страусами.
– Нильский подводный бог Сет вышел из своего подводного храма, чтоб приветствовать счастливое прибытие к пределам земли фараонов великого адона, – сказал жрец, потрясая в воздухе систром.
В это мгновение крокодил, раскрыв свою чудовищную пасть, схватил одного из страусов и, неуклюже перебирая своими безобразными ящериными лапами, бросился со своей добычей обратно к Нилу, подобно черной чешуйчатой колоде, бултыхнулся в него и исчез в мутных струях его.
– Великий нильский Сет принял жертву благородного адона, – воскликнул жрец, потрясая в воздухе металлическим систром, – подводный бог благосклонен к правой руке его святейшества фараона.
Не слушая болтовню жреца, Иосиф обратил внимание на отвесную, отполированную скалу, выходившую прямо из Нила, на которой начертаны были линии высоты вод во время разливов и года высочайшего подъема нильских вод. Несколько в стороне, на той же полированной скале Иосиф прочел следующее начертание:
«О великая, священная, непостижимая река! Кто изведает твои тайны? Кто достигнет той таинственной утробы, из которой изливаются твои воды? Где она? Где ее неистощимые от создания земли запасы? В недрах ли земли таятся твои неиссякаемые сокровища, в вечных ли снегах неведомых миру гор, в бродящих ли по лицу небес громовых тучах? Фараоны всех династий, победители вселенной, великие мудрецы земли египетской, жрецы всех богов Египта вопрошали тебя о том же, и ты оставался нем к их просьбам и заклинаниям. Владыки Египта силою надеялись похитить тайну твоего истока – твоего рождения, чтоб завещать ее будущим поколениям; но неумолимая природа ревниво берегла свою тайну. Фараон Аменемхат Третий, второй отец этого ниломера, хотел завистливым оком заглянуть в недра твоего рождения, но посланные им в глубь Эфиопии жрецы и воины частью погибли в пути под знойным поясом неба, частью обезумели от виденных ими ужасов. Величайший из фараонов, фараон Хуфу, великую гробницу которого доныне все смертные созерцают около Мемфиса, в “городе мертвых”, Хуфу, колесницу которого везли на себе цари этого мира, этот лев вселенной, едва не погиб под пламенным небом земли Куш, не постигнув таинственного лона вод твоих, а воины его, терзаемые голодом, пожрали друг друга, оставив на пути свои белые кости. И я в безумной дерзости искал твоего лона, лона твоей матери, о непостижимый Нил! И я измерил бесконечную даль твою, неизмеримые пространства, протекаемые тобою от века до века; но, страшась обезуметь от виденных мною на пути твоем ужасов, и я, посрамленный тобою, возвратился, не постигнув твоего начала. Но за то я отомстил тебе другою местью, гордый своей тайною Нил! Я похитил у тебя тайну разлития и оскудения вод твоих, и отныне жрецы Египта не будут уже приносить тебе человеческих жертв как ненасытному божеству. Для меня ты перестал быть богом».
Надпись эта поразила Иосифа. Он понял, что никто, кроме Тутмеса, не мог начертать ее.
– Чье это начертание? – спросил он жреца.
– Это начертание одного безумца, которого боги за дерзость превратили в песок пустыни, – отвечал жрец. – Начертание же это оставлено здесь в назидание и страх будущим поколениям.
Иосиф с грустью взглянул снова на начертание своего бывшего учителя и благодетеля. Вот все, что осталось после него!.. Обширные знания тайн природы, великий ум, непостижимая сила внушений воли – все погибло, все превращено в пепел вместе с его телом и смешалось с песками пустыни… И остались только эти слова его, частица его души, резцом прикованная к граниту. А его самого нет! Точно его и не было. Слова, начертания, резы на камне пережили его самого, творение пережило творца… Мысль пережила того, кто ее выразил, у кого она слетела с вещих уст и прильнула к этому мертвому граниту…
Да, не весь он погиб, не весь исчез со своим пеплом: частицу своих богатых знаний, часть своей души, своей воли он передал ему, Иосифу, бедному рабу из Ханаана, и этот бедный раб из Ханаана, проданный братьями за двадцать злотниц, теперь владыка всей земли фараонов, великий адон, всемогущий псомпфомфаних Верхнего и Нижнего Египта, от великих водопадов вплоть до «Великих зеленых вод» Уат-Ур.
В стоявшей поблизости свите Иосифа произошло движение.
– Гонцы из Мемфиса… Послы от фараона, – послышались голоса.
Иосиф невольно встрепенулся. К крепостным воротам Семне приближались прибывшие из Мемфиса гонцы.
Есть ли гонец от Асенефы? Дрогнуло сердце Иосифа.
Есть! Через несколько минут Иосиф отошел в сторону, держа в руке небольшой свиток папируса. Развернув и пробежав его глазами, он поднял взор к небу.
– О Бог мой! Бог отцов моих! Бог Авраама, Исаака и Иакова! Да будет благословенно имя твое! Сына, которого Ты дал мне, я назову Манассиею, ибо в этом сыне Ты сподобил меня забыть все несчастья мои и отца моего! – тихо шептал он, глядя в небо.
XI
Прошло десять лет. Первые семь лет из этих десяти были самыми урожайными, какие только могли запомнить старожилы Египта. В эти семь лет вследствие распоряжения Иосифа, все государственные житницы земли фараонов были наполнены запасами хлеба доверху. «И собрал Иосиф пшеницу, яко песок морский, – говорит Книга Бытия, – многу зело, дондеже не можаху исчести: без числа бо бяше».
После урожайных семи лет с Нилом совершилось что-то необычайное: разливы вод его разом прекратились, и страна фараонов осталась без орошения. Все, что было посеяно в первый год, было выжжено знойным солнцем и постоянно дувшими с юга пламенными ветрами хамсин, и ни одно зерно не взошло. Посевы следующего года также истребила засуха.
Для Египта настал голод… «И возопи народ к фараону о хлебах». Тогда фараон велел Иосифу открыть государственные житницы и продавать народу хлеб по уменьшенным ценам.
Иосиф занимал в то время со своим семейством половину мемфисского дворца фараонов. У него уже было от Асенефы двое сыновей, Манассия и Ефраим, из которых старшему было десять лет, а младшему девять.
Эти хорошенькие смуглые и черноглазые мальчики, окруженные сверстниками из детей других царедворцев, играют на дворе дома Иосифова «в голод». Манассия изображает из себя фараона Апепи, а Ефраим – его адона и псомпфомфаниха Иосифа. Другие мальчики играют роль «голодающих египтян».
Манассия с комической важностью восседает на «троне», на спине ближайшего к колоннаде дворца сфинкса. На курчавой головке его красуется венец Верхнего и Нижнего Египта из свертка папирусной бумаги. В правой руке скипетр из стебля лотоса с цветком. Ефраим стоит около него в почтительной позе царедворца. У колонны робко жмутся маленькие просители с мешочками в руках и с плутовскими улыбками на смуглых личиках.
– Я, Озимандий, царь царей, великий фараон Апепи, сын Амона-Ра! – важно возглашает Манассия. – Я повелеваю тебе, Иосиф, псомпфомфаних земли египетской, отпустить из моих житниц хлеба голодным рабам моим.
Ефраим почтительно поклонился и обратился к стоявшим у колонн мальчикам.
– Подойди сюда тот, кто ближе стоит, – сказал он ближайшему.
Мальчик, показывая видом, что очень боится «фараона» и его «псомпфомфаниха», что руки и ноги его дрожат от страха, подошел.
– Ты из какой области земли фараонов? – спросил его Ефраим.
– Из земли Гесем, господин, – отвечал мальчик, стараясь не фыркнуть в лицо «фараону» и его «псомпфомфаниху».
– Так и у вас голод?
– Голод, господин: и жена и дети мои давно не ели ничего.
– А деньги есть, на что купить хлеба?
– Есть, господин: вот деньги. – И шалун положил на ладонь Ефраима глиняный черепок.
– Вот пшеница, бери в свою суму, – сказал последний, указывая на кучу песку, что была приготовлена для посыпки дорожек в саду.
Мальчик насыпал в сумочку песку, перекинул сумочку на спину и, делая вид, что гнется под тяжестью мешка, удалился за колонну.
– Подходи следующий! – командовал Ефраим.
Тогда приблизился другой мальчик. Смуглые щечки его так и надувались от смеха, но он сдерживался.
– Ты из какой области? – спросил его Ефраим.
– Из… из… из… Ану – Гелиополиса… – И плутишка, зажимая руками нос, не удержался и фыркнул.
– А! – грозно проговорил Манассия. – Я, Озимандий, царь царей, повелеваю этого негодного раба взять в темницу! Заковать его в железо!
Ефраим схватил было провинившегося шалуна, но тот не давался; в борьбе оба мальчика разгорячились и заметно сердились, стараясь одолеть один другого.
– Ничтожный раб, повинуйся! – вскричал Манассия, вскакивая со своего трона. – Я повелеваю!
– Да он щиплется, – защищался виновный.
– Молчать, раб! – прикрикнул на него Манассия. – Вот я тебя!
– Я не раб! – в свою очередь вспылил мальчик. – Я сын благородного Путифара, архимагира фараонова! Ты сам раб! Твой отец Иосиф раб! Его мой отец купил на рынке как барана, а потом за воровство посадил в темницу.
Глаза Манассии сверкнули гневом. С поднятыми кулаками, забыв свой сан, сан «фараона», он бросился на обидчика; но тот, отчаянным усилием повалив на землю Ефраима, бросился бежать со двора. Манассия за ним.
– Жид!.. Жид!.. Жиденок! – кричал убегавший сын Путифара и Снат-Гатор, которая когда-то хотела обольстить Иосифа. – Жид!.. Жиденок!.. Презренный ханаанеянин!
Манассия и Ефраим погнались за ним; но напрасно: обидчик успел выбежать за пилоны дворца. Весь красный от обиды и гнева, Манассия выскочил тоже за пилоны и остановился: обидчик юркнул в толпу, скучившуюся у ворот двора Иосифова.
Это была странная толпа, состоявшая человек из десяти. Около каждого был осел, навьюченный мешками, по-видимому, до половины или совсем пустыми. Таких людей ни Манассия, ни Ефраим никогда не видали. Это не были египтяне: и одеяние их, и наружность, и незнакомая речь, которою они робко перекидывались между собою, все изобличало в них иноземцев, и, вероятно, пришедших издалека, так запылены были их лица и одежды. У каждого из них было по длинному посоху с какими-то крючками наверху.
Манассия и Ефраим, забыв о своем обидчике, с любопытством смотрели на незнакомцев. Они, по-видимому, о чем-то просили привратника дома Иосифова.
– Что это за люди? – тихонько спросил Манассия у привратника.
– За хлебом пришли издалека, господин, – отвечал последний.
– Откуда? Из какой земли? – спросил Ефраим.
– Из Ханаана, господин, – отвечал привратник, – ханаанеяне.
Манассия вспомнил, что Усурта, маленький сын Путифара, дерзко обозвал его тоже «ханаанеянином». Что же это такое Ханаан, ханаанеяне – эти слова он иногда слышал от отца. Зачем же его Усурта назвал ханаанеянином? Разве он такой же запыленный и загорелый, как эти пришельцы? Кто же они?
За разъяснением своих недоумений мальчик побежал к матери. Асенефа находилась в это время в небольшом саду, примыкавшем к половине дворца, выходившей к Нилу. Она в сопровождении двух рабынь возвращалась с купанья, устроенного в небольшом, обтянутом белой тканью бассейне. Это была уже не четырнадцатилетняя девочка, какою ее в первый раз увидел Иосиф двенадцать лет назад, а красавица египтянка в полном расцвете своем с томными, продолговатыми глазами сфинкса, с грациозными движениями тигренка.
Увидев своих мальчиков, она улыбнулась, замечая, что Ефраим все больше и больше становится похожим на отца своим кротким личиком и мягкостью взора, тогда как во взоре Манассии подчас сверкали молнии.
– Мама! Что такое значит ханаанеянин? – спросил последний с особенным блеском в глазах.
– Ханаанеянин, мой мальчик? – улыбнулась Асенефа. – Это житель Ханаана.
– А ханаанеяне хорошие? – продолжался допрос.
– Твой отец ханаанеянин, – отвечала Асенефа. – А почему ты это спросил?
– Там у ворот ханаанеяне, – сказал Ефраим. – Только они не похожи на отца.
– Какие ханаанеяне, дети? Где вы их видели?
Это спрашивал сам Иосиф, показавшийся наверху бокового пилона, с которого открывался вид на весь Мемфис и на пирамиды.
– У ворот стоят. Такие пыльные, – отвечал Манассия, – с длинными посохами.
– Такие странные, не похожи на египтян, – пояснил Ефраим.
– Их всех десять, – добавил Манассия.
Если б Асенефа и ее дети могли внимательнее вглядеться в лицо Иосифа, то они увидели бы, что он побледнел и с выражением не то боли, не то испуга на лице схватился за сердце и мгновенно скрылся за уступом пилона.
Через несколько минут он явился уже на дворе, глубоко взволнованный. Торопливо войдя в приемный покой своего дворца, он приказал рабам надеть на него багряницу и принести золотую цепь.
Облаченный в багряницу, он вышел на платформу, с которой ступени вели во внутренний двор с колоннами и сфинксами. В просвете из-за внешних пилонов виднелась группа ханаанеян, о которых ему сказали дети и которых он сам сейчас хорошо рассмотрел из амбразуры одного пилона, незамеченный ими. Остановившись на верхней ступени дворцовой платформы, он обратился к одному из окружавших его на почтительном расстоянии дворцовому служителю.
– Привести сюда тех иноземцев, что стоят за пилонами у ворот дворца.