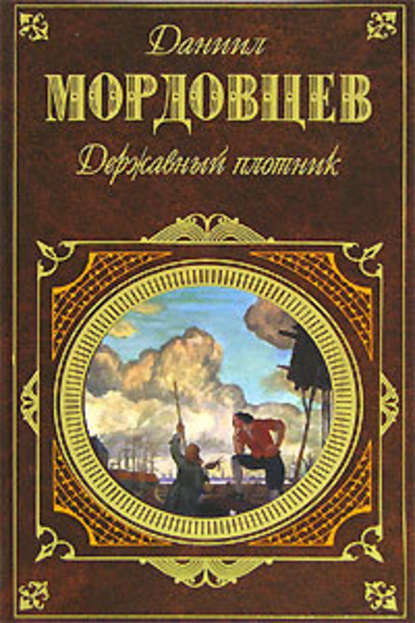По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И Макарка пришел...
А гусельник, став против бабы и вывертывая ногами, защипал на гуслях:
И Овдотьюшка пришла,
И Варварушка пришла,
И Оленушка пришла.
И Хавроньюшка пришла —
Поросяток привела...
От другого круга садил вприсядку к этому кругу седобородый казак и гудел, как шершень:
Тпррунды, баба, тпррунды, дед.
Ни алтына денег нет!
Откуда-то выскочила третья молодуха и зачастила:
Да-а-арья! Да-а-арья!
Дарья, Маланья,
Степанида, Солмонида,
На улицу выходила.
Короводы заводила!
Да-а-арья!..
– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, а я пришел! – раздался вдруг твердый и трезвый голос.
Все оглянулись. У ближайшего куста стоял чернец. Из-под скуфейки его падали на плечи недлинные огненные волосы. Плясуны и плясавицы остановились как вкопанные, так и прикипели на месте. Чернец, позвякивая железами, подошел к кругу.
– Здравствуй, Кирша, – сказал он угрюмо, – хорошо ли дьяволу служить?
– Турвонко! Ты ли это? – изумленно воскликнул Кирша и вскочил на ноги.
– Был Турвонт, а теперь старец Теренька, – отвечал чернец с огненными волосами.
– Турвонко, а и впрямь, братцы, Турвонт! Ай-ай! – закричали многие из стрельцов.
– Что с ним? Посхимился? Вот притча!
Все обступили пришельца, глядели на него, как на выходца с того света.
Бабы боязливо жались, держась в сторонке.
– Хорошо ли дьяволу служите, стрельцы? – повторил свой вопрос огненный чернец, глядя на своих бывших товарищей.
– Гуляем, братец, что ж! Ноне праздник, первый Спас, – как бы оправдывался Кирша пьяноватым голосом. – Спас на дворе, и гуляем.
– Хорошо спасенье...
– Чем дурно? Выпей и ты.
– А святую обитель разорять, коли и это хорошо? – спросил чернец, оглядываясь на монастырь.
– Мы их не разоряем, – оправдывался Кирша. – Вольно ж им великому государю грубить!
– А в чем их грубство?
– Молиться не хотят по новине.
– А! Так это у вас грубство? А сам ты по новине молишься?
Кирша замялся. Он сам чувствовал, что никак не может совладать с этой новиной: как забудется только на «Отче наше» либо на «Богородице», так у него два середине перста-то и топырятся вперед, а большой палец сам книзу гнется... «Тьфу ты лядина!» – так, бывало, и плюнет с досады.
– Да как это ты, Турвонушко, чернецом стал? – спросил он, не отвечая на вопрос рыжего. – И как тебя сюда занесло? Вить ты повез с Москвы в Пустозерск протопопа Аввакума.
– Повез, был грех. А он ноне сам меня, светик, на себе к спасенью везет, – отвечал рыжий.
Стрельцы, видимо, поражены были внушительной наружностью своего прежнего товарища и однокорытника. Вериги заметно звенели на нем, хотя глухо, при каждом движении, словно на цепной собаке. На лице и в особенности в глазах виделось что-то такое новое и страшное, что делало его совершенно другим человеком, человеком не от мира сего, не жильцом на свете.
Пир разрушен был, не пировалось как-то при виде этого выходца из другого мира: необычайная воля, проявляющаяся в человеке в той или иной форме, неотразимо действует на других, покоряет их, заставляя цепенеть их волю и совесть. Всякому кажется, что это он за него сделал, и это сознание свербит на совести, саднит болью и ноет на сердце... «Это он за меня, за всех нас...»
– Послушайте, стрельцы! Слушайте, православные! – начал огненный чернец, окидывая всех своими горячими глазами. – Вас обманом привели сюда. Статочное ли дело, монастырь разорять, да еще какой монастырь! Первый на Руси, которого нет святее во всем Московском государстве. Коли бы вы пошли на Троицу-Сергия, коли бы вас повели на него? А?
Стрельцы молчали, испуганно поглядывая друг на друга.
– Сказывайте: пошли бы?
– Нет, не пошли бы, – робко отвечали некоторые.
– Все это дело Никона, – продолжал чернец, – он смуту чинит во всей земле, он обвел колдовством великого государя. Да ведомо ли государю, что вы здесь добиваете святую обитель? (И он указал на церкви, глядевшие из-за стен монастыря: стрельцы испуганно оглянулись на них.) И вы стреляете по крестам! Вы по Богородице ядрами мечете. Али вы бусурмане? Али на вас креста нету?
Стрельцы, казалось, не смели глаз поднять. Страстная речь бывшего товарища смущала их, а пьяная совесть оказалась еще более податливою. Всем стало стыдно. Иные из них готовы были заплакать, как плачут пьяные: не сам плачет человек, а вино, размягчившее его.
– Что вы смотрите на воеводу? – продолжал страшный чернец. – Он заодно с Никоном... Свяжите его, злодея, да и по домам...
– Меня... связать? – раздался вдруг всем знакомый голос.
Стрельцы окаменели. Это был сам воевода. Он вошел в круг, бледный, с трясущимися губами, но твердой поступью. Рука его держалась за рукоятку сабли. Стрельцы расступились, как трава от ветру.
– Га! – захрипел воевода. – Вон они что затеяли! Воеводу вязать!.. Ты кто таков, сказывай! – накинулся он на чернеца. – Сказывай, каков человек?
– Сам видишь, – спокойно отвечал чернец.
– Имя сказывай. Именем кто?
– Мое имя у Бога записано, не прочтешь.
– А! Знаю! Ты из этой волчьей ямы. – И воевода указал на монастырь. – Почто пришел сюда? За каким дурном?
– За твоей головой.
А гусельник, став против бабы и вывертывая ногами, защипал на гуслях:
И Овдотьюшка пришла,
И Варварушка пришла,
И Оленушка пришла.
И Хавроньюшка пришла —
Поросяток привела...
От другого круга садил вприсядку к этому кругу седобородый казак и гудел, как шершень:
Тпррунды, баба, тпррунды, дед.
Ни алтына денег нет!
Откуда-то выскочила третья молодуха и зачастила:
Да-а-арья! Да-а-арья!
Дарья, Маланья,
Степанида, Солмонида,
На улицу выходила.
Короводы заводила!
Да-а-арья!..
– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, а я пришел! – раздался вдруг твердый и трезвый голос.
Все оглянулись. У ближайшего куста стоял чернец. Из-под скуфейки его падали на плечи недлинные огненные волосы. Плясуны и плясавицы остановились как вкопанные, так и прикипели на месте. Чернец, позвякивая железами, подошел к кругу.
– Здравствуй, Кирша, – сказал он угрюмо, – хорошо ли дьяволу служить?
– Турвонко! Ты ли это? – изумленно воскликнул Кирша и вскочил на ноги.
– Был Турвонт, а теперь старец Теренька, – отвечал чернец с огненными волосами.
– Турвонко, а и впрямь, братцы, Турвонт! Ай-ай! – закричали многие из стрельцов.
– Что с ним? Посхимился? Вот притча!
Все обступили пришельца, глядели на него, как на выходца с того света.
Бабы боязливо жались, держась в сторонке.
– Хорошо ли дьяволу служите, стрельцы? – повторил свой вопрос огненный чернец, глядя на своих бывших товарищей.
– Гуляем, братец, что ж! Ноне праздник, первый Спас, – как бы оправдывался Кирша пьяноватым голосом. – Спас на дворе, и гуляем.
– Хорошо спасенье...
– Чем дурно? Выпей и ты.
– А святую обитель разорять, коли и это хорошо? – спросил чернец, оглядываясь на монастырь.
– Мы их не разоряем, – оправдывался Кирша. – Вольно ж им великому государю грубить!
– А в чем их грубство?
– Молиться не хотят по новине.
– А! Так это у вас грубство? А сам ты по новине молишься?
Кирша замялся. Он сам чувствовал, что никак не может совладать с этой новиной: как забудется только на «Отче наше» либо на «Богородице», так у него два середине перста-то и топырятся вперед, а большой палец сам книзу гнется... «Тьфу ты лядина!» – так, бывало, и плюнет с досады.
– Да как это ты, Турвонушко, чернецом стал? – спросил он, не отвечая на вопрос рыжего. – И как тебя сюда занесло? Вить ты повез с Москвы в Пустозерск протопопа Аввакума.
– Повез, был грех. А он ноне сам меня, светик, на себе к спасенью везет, – отвечал рыжий.
Стрельцы, видимо, поражены были внушительной наружностью своего прежнего товарища и однокорытника. Вериги заметно звенели на нем, хотя глухо, при каждом движении, словно на цепной собаке. На лице и в особенности в глазах виделось что-то такое новое и страшное, что делало его совершенно другим человеком, человеком не от мира сего, не жильцом на свете.
Пир разрушен был, не пировалось как-то при виде этого выходца из другого мира: необычайная воля, проявляющаяся в человеке в той или иной форме, неотразимо действует на других, покоряет их, заставляя цепенеть их волю и совесть. Всякому кажется, что это он за него сделал, и это сознание свербит на совести, саднит болью и ноет на сердце... «Это он за меня, за всех нас...»
– Послушайте, стрельцы! Слушайте, православные! – начал огненный чернец, окидывая всех своими горячими глазами. – Вас обманом привели сюда. Статочное ли дело, монастырь разорять, да еще какой монастырь! Первый на Руси, которого нет святее во всем Московском государстве. Коли бы вы пошли на Троицу-Сергия, коли бы вас повели на него? А?
Стрельцы молчали, испуганно поглядывая друг на друга.
– Сказывайте: пошли бы?
– Нет, не пошли бы, – робко отвечали некоторые.
– Все это дело Никона, – продолжал чернец, – он смуту чинит во всей земле, он обвел колдовством великого государя. Да ведомо ли государю, что вы здесь добиваете святую обитель? (И он указал на церкви, глядевшие из-за стен монастыря: стрельцы испуганно оглянулись на них.) И вы стреляете по крестам! Вы по Богородице ядрами мечете. Али вы бусурмане? Али на вас креста нету?
Стрельцы, казалось, не смели глаз поднять. Страстная речь бывшего товарища смущала их, а пьяная совесть оказалась еще более податливою. Всем стало стыдно. Иные из них готовы были заплакать, как плачут пьяные: не сам плачет человек, а вино, размягчившее его.
– Что вы смотрите на воеводу? – продолжал страшный чернец. – Он заодно с Никоном... Свяжите его, злодея, да и по домам...
– Меня... связать? – раздался вдруг всем знакомый голос.
Стрельцы окаменели. Это был сам воевода. Он вошел в круг, бледный, с трясущимися губами, но твердой поступью. Рука его держалась за рукоятку сабли. Стрельцы расступились, как трава от ветру.
– Га! – захрипел воевода. – Вон они что затеяли! Воеводу вязать!.. Ты кто таков, сказывай! – накинулся он на чернеца. – Сказывай, каков человек?
– Сам видишь, – спокойно отвечал чернец.
– Имя сказывай. Именем кто?
– Мое имя у Бога записано, не прочтешь.
– А! Знаю! Ты из этой волчьей ямы. – И воевода указал на монастырь. – Почто пришел сюда? За каким дурном?
– За твоей головой.