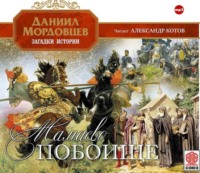Царь и гетман
– Что это такое? Я тебя спрашиваю, – повторил святитель громче.
– Дворец, владыко…
– Не дворец царский, а капище идольское…
– Ваше преосвященство! – смущенно заговорил Ягужинский, приближаясь к архиерею. – Его величество ждет…
Святитель вскинул на него свои чистые, блестящие внутренним огнем глаза.
– Доложи его величеству, что служитель Бога Живого, предстоящий престолу Его предвечному, не внидет в капище языческое…
– Владыко… отец святой…
– Пойди и передай мои слова государю, юноша! – по-прежнему кротко, но твердо сказал архиерей.
Ягужинский убежал в дом. Архиерей продолжал стоять на дворе, опустив голову… Народ, прорвавшись в ворота, смотрел в недоумении на стоящего у крыльца святителя…
Снова вышел Ягужинский. Смущение и страх выражались на его живом, прекрасном лице.
– Его величество повелел указать… – Юноша совсем замялся и покраснел.
– Что повелел указать?
– Явиться к нему… и, – и голос у Павлуши сорвался, – напомнить, что ожидает… ослушников…
– Скажи, юноша, его величеству, что я скорее явлюсь к престолу Всевышнего, будучи предан лютой казни, чем переступлю порог капища сего! – громко, отчеканивая каждое слово, отвечал Митрофаний. – Я охотно приму мученическую смерть… Доложи царю, что и гроб у меня готов уже…
И, быстро поворотившись, он вышел со двора, благословляя народ… Словно море, заколыхалась площадь человеческими головами…
Царь стоял у окна бледный, с зловещими, страшными подергиваниями искаженного лица.
IV
Народ, сопровождавший Митрофания, был необыкновенно поражен тем, что он видел. Некоторые видели только, что архиерей был чем-то остановлен у входа в царский дворец и воротился назад с особенной строгостью на добром, всепрощающем лице, которое так было знакомо народу именно в смысле всепрощения. Другим удалось слышать протестующий голос владыки. Иным бросилось в глаза изумленное и испуганное лицо юного царского денщика. Некоторые, наконец, слышали самые слова Митрофания, хотя уловили их без связи: «Дворец» – «капище идольское» – «лютой казни» – «гроб готов»… Что это такое? Кто на кого разгневался? Кто кому угрожал? Кого ожидает гроб? Конечно, того, кто менее силен в этом столкновении. А что столкновение между царем и архиереем произошло, это было ясно как день. Но из-за чего? Конечно, из-за этих медных «бесов», что поставлены при входе во дворец. Да и кто мог не смутиться при виде этих огромных медных дьяволов, что стоят там! Еще когда только привезли их откуда-то, да привезли не на простых возах, а на каких-то огромных катках с невиданно толстыми колесами без ободьев и без спиц, так и тогда народ диву дался и недоумевал, что бы это было такое. Ведь шутка ли! Одних лошадей было впряжено в эти дьявольские колесницы по три тройки. Сначала думали было, что это царь для потехи себе велел привезти из Москвы Царь-пушку да Царь-колокол, и все с нетерпением ждали увидеть эти чудеса. Но когда чудеса эти корабельные плотники целой артелью едва осилили стащить с катков и когда стали освобождать их от рогож, то из рогож показались ужасы! Там нога медная торчит, там рука, да такой необычайной величины, что и не леть есть человеку глаголати; плотники так и шарахнулись от них с ужасом, крестясь и чураясь: «Чур-чур-чур меня! Чур, нечистая сила!» А как немецкие мастера сняли рогожи с верхних частей этих чудищ и народ увидал там огромные медные головы с медными волосами и медными глазами без зрачков, так всем ясно стало, что это дьяволы, «идолы медяны». С тех пор так эти чудовища и пошли за медных бесов, и народ боялся их.
Теперь, когда что-то произошло между царем и архиереем и когда архиерей, видимо хотевший подойти к царю, наткнулся на медных бесов и воротился назад, ясно стало, что все это из-за бесов. По городу, по рынкам и между рабочими артелями пошли толки самые разнообразные, самые невероятные. Бабы и тут, как и везде, представляя собою материал более восприимчивый и более горячий, оставляя в своем более впечатлительном мозгу всегда свободное гнездилище для фантазии, бабы уже разносили по городу целые легенды, с неопровержимыми цитатами, что «сама-де своими глазами видела». Одна рассказывала, что «когда батюшка Митрофаний подошел к медным бесам, так они испужались его, угодничка, и медными глазищами своими так и воззрились». Другая уверяла, что когда Митрофаний «перекрестил их, бесов, так у них, у проклятых, из ушей и из ноздрей полымя – полымя так и пышет». Третья рассказывала, что бесы, как увидали, что «к ним идет сам угодничек Митрофанушко, так от радости, мать моя, заплясали, да заплясамши-то и говорят: „Наш еси Митрофаний, – воспляшем”». Одним словом, толкам, догадкам и ужасам не было конца. Но все это сводилось к одному страшному вопросу: «сказнит» царь Митрофания или «не сказнит». Большинство было уверено, что «сказнит». Слова, сказанные самим архиереем о «казни», о «готовом гробе», подтверждали возможность и даже неизбежность этого последнего, трагического исхода.
Но еще в большее изумление и ужас пришел народ – когда к вечеру услыхали, что самый большой колокол соборной колокольни ударил на отход души. Все невольно вздрогнули от этого звона: все знали, что этот колокол звонит только на отход священнической души. Кто же из попов соборных умер? Недоумевали все… За первым ударом, как это всегда бывает при звоне на отход души, следовал убийственно долгий промежуток: унылый, мрачный гул первого удара все еще стоял, медленно замирая, в вечернем воздухе. Ждали второго удара, напряженно ждали. Сколько-то раз ударит? Чем больше ударов, тем старше поп… Но вместо повторения удара на соборной кафедральной колокольне ударил колокол на крестовой[53] архиерейской церкви!.. Ужас напал на богомольных воронежцев и на весь пришлый, тысячами согнанный для корабельного дела народ… Умер кто-то в крестовой церкви; кому же больше, как не Митрофанию!.. После крестовой отходный колокол уныло ударил на колокольне малого собора, потом в другой, в третьей, в четвертой церкви – все воронежские церкви ударили по разу, да так медленно-торжественно, пока не замирал последний звук стонущего колокола на предыдущей колокольне. А там снова загудел большой соборный колокол… Опять ему ответили все церкви одна за другою, опять это страшное перекликание глухо ревущей меди.
Что это такое? Народ повалил толпами к архиерейскому дому, слышно уже было, как выли и голосили бабы. Рабочие, топоры которых стучали на верфи до глубокой ночи каждый день, теперь покинули свои работы и кучами спешат на площадь. Площадь уже полна народу. В окнах архиерейского дома светятся необычайные огни; видно, что зажжены свечи у всех паникадил, у всех образов. Мелькают тени протопопов, попов и диаконов в черных ризах. Из самого дома невнятно доносится погребальное, не то отходное пение…
Умер Митрофаний, преставился угодничек Божий. Да и смотрел он уже мертвецом, не жильцом на белом свете. Весь-то он уже был словно восковой, точь-в-точь белая свечечка воскояровая, и ручки-то восковые да холодные-холодные! Только в глазах и теплился огонек.
И царь в недоумении. Что за необычайный звон на отход души? Чья душа отходит, да не мирская душа, а иерейская? Не таков звон, это звон большой, епископский, это отход большой души, словно бы царской… Петр невольно дрогнул… Подходит к окнам – площадь залита народом, а в архиерейском доме зловещие огни. Что там творится?
Немедленно царь посылает Ягужинского узнать, что делается в архиерейском доме, по ком это звон в городе?
Сопровождаемый двумя рейтарами[54], Павлуша с трудом пробивается сквозь живую стену мужичьих тел. На архиерейском дворе те же толпы, но только больше духовенства. «Посол от царя, посол от царя!» – проносится глухой говор по площади и по двору. На лестнице также толпится духовенство, в покоях тоже… Воздух пропитан курениями… В крестовой идет служба…
– По указу его царского величества пропустите! – заявляет Павлуша своим отроческим, еще не сформировавшимся голосом. – Где преосвященный?.. Его величество указать изволил…
– Владыка в крестовой… отходит, – отвечает кто-то убитым голосом…
Кругом слышатся стенания, то глухие, то неудержимые.
– Отходит?.. Кончается? – растерянно спрашивает Павлуша.
– Готовится на исход души…
Павлуша входит в крестовую. Она полна духовенства. Все стоят коленопреклоненные…
Юного царского посланца охватывает ужас… Среди церкви на архиерейском возвышении стоит гроб, а у гроба Митрофаний, коленопреклоненный, громко, пред всею церковью, исповедуется в грехах всей своей жизни и плачет. За ним плачет вся церковь…
– Заповедую вам, молю вас! Тело мое грешное псам вверзите, – слышится Павлуше; это говорит Митрофаний.
Юноша не выносит этой раздирающей душу сцены. Еще недавно он сам вынес жестокую горячку, которая подкосила его в тот момент, когда неугомонный царь воздвигал крест на Котлине в ознаменование закладки там будущей грозной крепости; еще недавно метался он на могучих руках царя в безумном бреду, переживая те острые боли постоянно бьющих по сердцу и по нервам впечатлений, неизбежных в присутствии такой страшной, все опрокидывающей силы, как Петр, и слишком сильных для такого хрупкого организма, как организм юноши; еще не успел этот юноша отрешиться ни от глубокого потрясения, какое он испытал в Украйне, в саду у Кочубея, при необыкновенной встрече с его дочкою, залитою цветами, и с этим смеющимся сатиром с лукавыми глазами, ни от сцены смерти Кенигсека, ни от кровавых сцен штурма Ниеншанца, и вдруг эта потрясающая сцена! Изможденный старик заглядывает в свой гроб… Но мало ему этого гроба: гроб – это роскошь для него! «Вверзите псам тело мое!» Вот где успокоится изможденное тело…
Разбитый, подавленный этим впечатлением, Павлуша возвращается к царю бледный, растерянный…
– Ну, что там? Что с Митрофаном? Скончался? – спрашивает Петр, участливо глядя на своего любимца, которого еще недавно он с трудом отнял у смерти.
– Кончается, государь… У гроба исповедуется… Велит тело свое собакам отдать… Все плачут, – бессвязно отвечает юноша.
– Так внезапно! Бедный старик, я огорчил его… Я хочу его видеть…
– Нет, государь… да… успокой его…
Царь быстро проходит через приемную, где немецкие и голландские мастера-корабельщики ждут его с своими докладами, чертежами, моделями, и они, видимо, торопятся, и они наэлектризованы неугомонным кайзером, куда девалась немецкая неповоротливость!
– Клейх, клейх, мине херен![55] – торопится царь. – Я скоро ворочусь!
– Ай-ай-ай! – диву даются немцы. – Нун! Сист оркан! Аа-ай-ай!
А этот «ураган» уже несется по площади, на целый аршин высится над всеми голова великана, и народные волны расступаются перед «ураганом», площадь колышется… «Царь, царь идет…» Пока царь шел, шепот этот, обойдя всю площадь, проник и на архиерейский двор, и в архиерейский дом, и в крестовую церковь. Понятно поэтому, что там ждали царя, и когда он проходил по дому в крестовую, то все расступалось перед ним и склонялось, как трава под ветром. Но служба продолжалась; Петр слышал, что в церкви поют отход души.
Царь вступил в церковь и остолбенел от изумления: на архиерейском возвышении стоял гроб, а мертвец, положенный в гроб, благословлял его, царя!
– Благословен Грядый во имя Господне! – благословлял царя Митрофаний из гроба.
Царь не понимал, что вокруг него делается; он видел только, что все плачут, а тот, кого оплакивают, глядит из гроба и благословляет своею мертвою рукой.
– Митрофан! Что есть сие? – спросил Петр, приблизившись к гробу и глядя в кроткое, как и всегда, лицо епископа.
– Творю волю цареву, – отвечал лежавший в гробу.
– Какую мою волю! Кто объявлял ее тебе?
– Твой денщик перед лицом народа твоего.
– Но что он объявил тебе?
– То, что ослушника царевой воли ожидает смерть… Я готовлюсь к смерти, я должен умереть.
– Ты не должен этого делать, жизнь твоя в руках Божиих.
– И в царевых… Ты изрек мне смерть… Не мимо идет слово царево…
– Митрофан! – резко сказал царь. – Ты смеешься надо мной! Встань из гроба!
– Не встану! – отвечал старик.
– Встань, говорят тебе!
– Не встану.
– Послушай, – и лицо Петра исказилось, – вспомни митрополита Филиппа[56] и царя Иоанна!
– Помню, царь… Большего и ты не сделаешь. Я умру…
Петр отшатнулся от гроба. Он чувствовал, что железная воля его встретила волю более упругую: из молота он сам превращался в кусок железа, и тяжкий молот бил по нем. Кто же был этот молот? Полумертвец… Петр снова почувствовал, как чувствовал это утром на площади, что он бессильнее этой тени в образе человека.
– Митрофан, епископ Воронежский и Задонский! – грозно сказал царь. – Я повелеваю тебе встать!
– И паки реку: не встану!.. Не мимо идет слово царево, – продолжал твердить упрямец.
– В последний раз говорю тебе, Митрофан… Слушай! Божиею милостию мы, Петр Первый, император и самодержец всероссийский, повелеваем тебе: встать! Это мой именной указ…
– Именному указу я повинуюсь: я встаю, – сказал наконец Митрофаний.
Но встать он не мог, силы покинули его. Он было приподнялся из гроба, перекрестился; но хилое, испостившееся и изморившееся тело не выдержало страшных напряжений духа, и старик опрокинулся навзничь, ударившись головой о край гроба. Присутствующие вскрикнули в ужасе. Испуганный царь нагнулся к несчастному и силился приподнять его…
– Прости меня, отче святой, прости! – шептал он, целуя холодную руку подвижника.
– Бог простит, Бог простит…
– Я был не прав перед тобою… Я сказал необдуманное слово… Прости меня!
– Бог да благословит тебя, сын мой.
Поддерживаемый царем, Митрофаний встал из гроба и, обращаясь к присутствующим, сказал: «Отцы и братия! Царь даровал живот мне… Молитесь о здравии царя». Потом, обращаясь к Петру, сказал: «Не суди, царь, безумие мое видимое… Ради тебя я не вступил во дворец твой: не идолы еллинские остановили меня, а невегласы[57]… Помни, царь, на их выях зиждется крепость твоя, а я – пастырь их… Крепко будет царство твое, доколе овцы будут слушать гласа пастыря своего…»
* * *В ту же ночь по приказанию царя статуи, стоявшие у входа во дворец, были сняты. Это было первый раз в жизни Петра, что он покорился чужой воле. И кто же сломил этого железного великана! Дряхлый, стоящий одною ногою в могиле старичок.
Когда на другой день Митрофаний явился к царю, то о вчерашнем происшествии не было произнесено ни одного слова ни с той, ни с другой стороны. Петр был еще более внимателен к старому святителю и казался несколько задумчивым.
– Я хочу посоветоваться с тобой, святой отец, – сказал царь. – Меня отягчают и семейные, и государственные заботы, и я прошу твоей помощи.
Митрофаний сидел молча, наклонив голову и тихо перебирая четки.
– У меня нет семьи, владыко, – продолжал царь. – Я одинок…
Митрофаний молча поднял на царя свои кроткие глаза и ждал.
– У меня нет жены, а сын сердцем принадлежит не мне, да он и не приносит мне утешения… Я помышляю вступить во второй брак, владыко… Благослови меня…
Митрофаний не сразу отвечал. Четки в руках его усиленно перебирались.
– Если Церковь благословит твой брак, то и я благословлю тебя, государь, – отвечал он наконец.
– Я и желаю, однако, чтоб Церковь освятила мой брак…
– А кого ты избираешь царицею? Дщерь православной церкви?
– Нет, владыко…
На лице Митрофания выразилась горечь сожаления… Он грустно покачал головой…
– Ошибки… все ошибки… Великие дела и великие погрешности… Величие и слепота, – повторял он как бы про себя. – Господи, просвети очи царевы…
– О каких ошибках говоришь ты, владыко? – нетерпеливо спросил царь.
– Разогни книгу твоей жизни – и ты увидишь их, – отвечал Митрофаний. – Теперь новую ошибку хочешь вписать в книгу жизни твоей… А ошибки царей, ведай, государь, кровию миллионов пишутся на скрижалях истории…
– Я понимаю, владыко, о какой ошибке говоришь ты, – перебил его царь. – Но ту, которую я намерен царицею наименовать, я введу в лоно православной церкви… Какие же другие ошибки ты разумеешь? Не ты ли благословлял меня на дело просвещения России? Не ты ли один словом твоим мудрым укреплял меня в трудах моих? Не ты ли благословил борьбу мою с Карлом за возвращение земель предков моих? Не ты ли окропил святою водою первый корабль, который я построил здесь, на твоих глазах? Не ты ли светлым умом прозрел будущее величие России и поддержал меня, одинокого, никем не понятого? И я ли не любил тебя за это!
Петр встал и нервно заходил по комнате… Поразительный контраст представляла его мощная, гигантская фигура рядом с тщедушным телом архиерея, который грустно покачивал головой, по-видимому далеко блуждая своей старческой мыслью.
– Я скоро, великий государь, предстану пред лицом Бога моего… Се ныне зде, с тобою беседую, а наутро в землю отыду, откуду же взят есмь… Творцу моему я повинен буду отчет дать в том, все ли исполнил я на земле. Не все я исполнил, государь… не все… и виною тому ты, великий государь.
– В чем же вина моя пред тобою, владыко? – спросил царь.
– Имеяй уши слышати – да слышит, имеяй разум ведети – да ведает, имеяй очи сердечные – да видит… А у тебя, царь, сердце слепотствует…
– Говори же, в чем?..
– Да ты не послушаешь гласа моего… Не пастырь я твой…
Петр остановился перед ним, вытянувшись во весь свой гигантский рост. Лицо его дергалось, но в огненных глазах светилась небывалая теплота.
– Послушай, владыко! – резко сказал он, и голос его дрогнул. – Чего тебе надо от меня? Послушания, любви? Да я ли не люблю тебя больше всего на свете после России! Я ли не сын тебе? Я отца родного не любил так, как тебя люблю. Я не знаю, не ведаю, что это за сила в тебе, Дух ли то Божий чуется мне в твоей кротости, ум ли то божественный горит в очах твоих смиренных, но я всегда слушаю тебя трепетно. Ты один не усыпляешь ум мой лестию, и ты один – один во всей державе моей – понял меня, подкрепил, благословил… Так ты ли не пастырь мне!
Он остановился, увидев, что старик плачет… Мелкие-мелкие, как роса утренняя, – крупные уже давно выплаканы! – слезы, сбегая с бледного, худого лица, разбивались о четки.
– Прости меня, царь, – тихо сказал Митрофаний, – я говорю с тобою в последний раз… Земля зовет сию земную оболочку мою, – и он указал на свое изможденное тело, – я отхожу от мира сего, час мой приспе… Выслушай же меня, великий государь, Богом Живым заклинаю, выслушай.
– Я слушаю, – покорно сказал Петр.
– Великие бедствия, царь, готовишь ты державе твоей в сердце твоем: сердце твое отвратилось от сына, а он – не Авессалом[58]. Помни это! – сказал Митрофаний. – Слезы нелюбимого отольются горчайшими слезами на любимом. В новом браке твоем, царь, я предвижу горе для сына твоего.
Царь слушал, задумчиво склонившись на руку и, по-видимому, прислушиваясь к стуку топоров и визгу пил, доносившихся с пристани.
– Напрасно, владыко, я люблю Алексея, – сказал царь по-прежнему задумчиво, – только он не любит моего дела.
– Оттого что ты его не любишь.
– Не знаю, но он назад глядит, а не вперед.
– А потому что назади у него образ матери…
Лицо Петра подернулось.
– Не напоминай мне царицу Авдотью, – сухо сказал он.
– Я напоминаю тебе все, что велит мне совесть моя, я иду отдавать отчет Богу и Царю моему и твоему… Ты вспомнишь меня в самые тяжкие часы твоей жизни и тогда уверуешь в слова мои: в кого ты душу свою положишь, царь, от того душа твоя прободена будет…
– От кого же? – живо спросил царь.
– Я не знаю, я не пророк: я не имена говорю тебе, а заповеди человеческие.
В это время в кабинет, где сидели царь и Митрофаний, вошел Павлуша Ягужинский и остановился у двери. Лицо юноши было необыкновенно оживленно, на щеках играл румянец, в глазах светилось что-то особенное.
– Ты что, Павел? – спросил царь, пристально вглядываясь в лицо своего любимца.
– Посланцы, государь, от гетмана Мазепы приехали.
– Кого прислал он?
– Енерального судью Василия Леонтьевича Кочубея с бунчуковыми товарищами.
– Добро… Скоро приму их… А ты что такой веселый? – неожиданно спросил царь.
Павлуша смешался еще более и покраснел и готов был провалиться сквозь землю.
– Я… ничего, государь… так, – пробормотал он.
– Не так, я знаю тебя, ну! – настаивал царь.
– Я, государь, Диканьку вспомнил (Павлуша знал, что солгать царю нельзя было – допытается)… Там в саду так хорошо… и Кочубей там, и Мазепа…
Но юноша не досказал: не Кочубей и не Мазепа вспомнились ему в этих цветах, а Мотря; только о Мотре он не сказал царю… А между тем эта Мотря прислала с отцом поклон ему, Павлуше… Вот отчего горят его щеки…
Царь улыбнулся, а Митрофаний, глядя своими кроткими глазами на Павлушу, с любовью шептал: «Дитя… сих бо есть царство Божие…»
«Она не забыла меня», – билось радостно сердце Павлуши, и щеки его еще пуще горели.
V
Прошло три года после описанных нами событий. Петр продолжал войну с Карлом XII; положение дел год от году становилось с обеих сторон напряженнее, и грозный никому не ведомый исход этой роковой борьбы тем более обострялся, что напряжение сил и с этой, и с другой стороны, можно сказать, уже переходило за предел упругости; сталь событий, если можно так выразиться, не там, так здесь должна была лопнуть. Петр ни за что не думал уступать Балтийское море и лихорадочно работал над укреплением Петербурга и ключа к нему – Котлина с нововозведенной крепостью Кронштадтом. Для этой борьбы Россия должна была нести страшные, небывалые жертвы: для того, чтобы достать средства на войну, царь обложил налогами и землю, и воду, живых и мертвых. Обложена была податью даже борода – от тридцати до ста рублей, смотря по человеку, что на наши деньги составляет тысячный налог на одну бороду. Рабочие, приходившие в город для заработков, должны были платить по две деньги всякий раз, как входили в городские ворота и заставы или выходили из них, если были с бородами. Зипун, армяк, чапан, одноряди – всякое русское платье, входившее в город, платило тринадцать алтын две деньги, когда оно входило в город пешим, и два рубля – конным. Каждый мужик, идя в город, должен был нести в казну три камня для мощения улиц. Дубовые гробы были отобраны у продавцов и продавались четверною ценою богатым и благочестивым людям для их мертвецов. Рекрутские наборы чуть не превратились в поголовщину.
Можно по этому судить о напряжении народных сил.
Нравственное напряжение отражалось и на каждой отдельной личности, а иных привело к роковому концу. Царь стал еще суровее, чем был. Отношения его к сыну сделались еще более натянутыми, особенно с тех пор, как царь стал подозревать, что Алексей, руководимый лукавою теткою, царевною Софьею, успел тайно свидеться с матерью.
Царевна Софья недолго еще жила в своем грустном заточении, да там же, в Новодевичьем, и Богу душу отдала. В предсмертной агонии она все отмахивалась от чего-то, с ужасом глядя на окна своей кельи и бессвязно повторяя:
– Что вы мне подаете ваши челобитья!.. Подавайте их Господу Богу… вы повешены… преставились… Что глядите с виселиц ко мне в окна. Уйдите… не глядите на меня… не дражните мертвыми языками… я сама к Богу уйду… уйдите!
Это вспоминались ей стрельцы, которых когда-то царь повесил перед ее окнами и дал им в мертвые руки челобитные, в коих были написаны их «повинки»…
Митрофаний также недолго прожил после того, как, из-за царского гнева, велел звонить по себе на отход души и когда царь видел его лежащим в гробе и благословляющим входящего в церковь грозного монарха: он скончался через несколько недель после разговора с Петром, прерванного Павлушею Ягужинским известием о прибытии послов от Мазепы. Царь искренне плакал над гробом святителя и на своих богатырских плечах, вместе с сановниками и Павлушею, перенес маленькое тело угодника в его вечное успокоение.
– Как легки мощи угодника, – сказал Петр, опуская в могилу гроб Митрофания, – точно тело младенца.
– Для того им легче будет, ваше величество, из земли изыдти и истинными мощами стати, – заметил Кочубей, бывший тут же на похоронах.
– Кочубей правду говорит, – сказал на это царь. – Одного токмо боюсь я, как бы нам с тобою, Василий Леонтиевич, не пришлось скоро опускать в землю нашего любезного и верного гетмана, сведут его со свету эти подагрические да хирагрические немощи.
Кочубей ничего не отвечал, только какой-то неуловимый свет пробежал по его черным татарским глазам и тотчас же потух. Павлуша Ягужинский, ни на шаг не отходивший от Кочубея во все время его пребывания в Воронеже и постоянно расспрашивавший его о Диканьке, о тамошнем саде, о цветах, о том, какие цветы больше любит панна судиевна, один Павлуша мог прочитать в татарских глазах Кочубея ответ на опасения царя о Мазепе: «Ну, его черт не скоро еще возьмет» – и Павлуше это очень понравилось, потому что он почему-то с первого разу невзлюбил гетмана, особенно когда тот поцеловал в лоб свою крестницу.