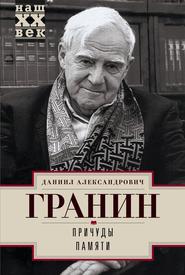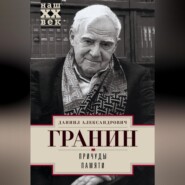По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Последняя тетрадь. Изменчивые тени
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Перед этим с Риббентропом наши правители торжественно подписали договор о ненападении. На фотографии в «Правде» советские хитрецы вместе с ним весело улыбаются. Потом Молотов целовался с Риббентропом.
Молотов вещал, что Германия стремится к миру, а Англия и Франция – за войну, это средневековье.
Заблуждался? Кое-как объяснимо. Мог так думать, да еще политика заставляла. Историки старались оправдать и его, и других.
Война закончилась. После нее Молотов прожил еще 41 год! Бог ты мой – целую жизнь! Было время объясниться с Историей, поправить себя, оставить какую-то ясность. Нет, не захотел. Все, что делал, правильно, честно, мудро, иначе было нельзя, никаких покаяний, фиг вам!
* * *
Немцы всё кричали «ура!» Гитлеру, доносили гестаповцам, потом в ГДР стали доносить «Штази» на тех, кто смотрит западное TV. Теперь они требуют выяснить, кто из новых депутатов был связан с КГБ.
Немец, молодой, веселый, сказал мне: «Какая у вас плохая туалетная бумага, как вы живете, я взял кусок показать у нас в ФРГ, чем вы подтираетесь».
В ГДР было 85 000 штатных сотрудников «Штази».
Как одинаково распадались режимы в Болгарии, ГДР, Чехословакии, и как глупо вели себя при этом правители.
Карл Т. вступил в компартию, чтобы сделать карьеру, теперь вышел, чтобы опять продвинуться.
* * *
Как хороши поначалу были слова Ольги Берггольц на памятнике Пискаревского кладбища: «Никто не забыт и ничто не забыто».
Как они согревали всех нас, и блокадников, и солдат. Они звучали точно клятва государства.
Прошли годы, и они незаметно превратились в упрек: что же вы, господа хорошие, забыли и нас, и все, что было? Одно за другим приходят письма: «Я, инвалид I группы Красавина Тамара, наша мама всю жизнь трудилась дворником, вечерами в прачечной стирала людям… Мы считаемся блокадниками, и что? У нас есть бедные и богатые. Бедные живут на 2000 рублей, а богатые едут в Италию и Париж. И им все мало».
Ольга Федоровна верила, что слова ее, высеченные на камне одного из главных памятников Великой Отечественной, не устареют, они были как формула, как закон.
* * *
В блокаду мы на фронте стреляли ворон. Охотились за ними больше, чем за немцами. Ездили еще на «пятачок» охотиться, там можно было подхарчиться за счет убитых, которыми питались вороны.
* * *
Получил боец посылку, понес, заблудился, попал к немцам, не растерялся, сказал: ведите к офицеру – мой командир посылает вам на Новый год. Отпустили. Случилось это на Ленинградском фронте. Сценаристы попользовались для фильма – получилась выдумка.
* * *
Как же так случилось, что я стал седым?
А и сам не помню – был ли молодым.
Воевал ли я, может, то был другой, а может, меня убили, а остался кто-то другой?
* * *
9 мая 1945 года Эренбург ночью написал стихи «В мае 1945». Кончаются они так:
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал – закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.
В те же дни Абакумов писал Сталину донос на Эренбурга.
* * *
То и дело открываются тайны прошлого: обстоятельства убийства Кирова, смерть Сталина, расстрел Берии, сведения про Жукова, про Хрущева… Раскрываются всё новые и новые тайны, публикуются легенды, подозрения, слухи о нераскрытых преступлениях, документах…
Блокадная память
Записывая рассказы блокадников, мы чувствовали, что рассказчики многое не в состоянии воскресить и вспоминают не подлинное прошлое, а то, каким оно стало в настоящем. Это «нынешнее прошлое» состоит из увиденного в кино, ярких кадров кинохроники, книг, телевидения. Личное прошлое бледнеет, с годами идет присвоение «коллективного» – там обязательные покойники на саночках, очередь в булочную, «пошел первый трамвай». Нам с Адамовичем надо было как-то вернуть рассказчика к его собственной истории. Нелегко преодолеть эрозию памяти. Это было сложно, тем более что казенная история противостояла индивидуальной памяти. Казенная история говорила о героической эпопее, а личная память – о том, что уборная не работала, ходить «по-большому» надо было в передней, или на лестнице, или в кастрюлю, ее потом нечем мыть, воды нет…
Мы расспрашивали об этом, о том, что было с детьми, как раздобыли «буржуйку», сколько дней получали хлеб за умершего.
* * *
Когда-то римский сенатор Катон повторял: «Карфаген должен быть разрушен». А мой друг говорил: «А Ленинград – восстановлен!»
* * *
«Я установил, что я бездарен, поэтому нет смысла оставаться порядочным. Талантливый человек, когда согрешит, его будут осуждать, вздыхать. Порядочность его украшает. Меня ничто не украсит, а расходы на порядочность большие, прославить она не может. Нет уж, тем более что подлости у меня получаются».
Я так и не мог понять, издевался Игорь Федорович над собой или хотел меня вызвать на откровенность. Мы выпили еще, и я стал его утешать, вспомнил, какой замечательный капустник он сочинил. Он прослезился, повеселел, похоже, что это ему и надо было.
«В начале мая…»
В начале мая деревья покрылись зелеными мушками. Нет, не покрылись, а задымились, зеленый прозрачный дымок от первых листочков. Тень появилась – светлая, редкая, пахучая. Я в нее окунулся. Дул ветерок, но ни березки, ни липы на него не отзывались, нечем им было, они еще бесшумны. Солнце делает новорожденные листики прозрачно-зелеными, яркими, от этой детской чистоты природы меня охватывает восторг, на душе весело и молодо, как там, где тоже ликует зелень в солнце, хочется, да нет, ничего не хочется, а просто восторг. Стою и улыбаюсь. Иду и улыбаюсь.
Я хожу в эту рощу часто, знаю каждое дерево, молодняк не различаю, а вот с коренными знакoм.
Хорошо здесь к концу сентября, тогда в лесу пылает осеннее пламя. С дороги там над темными кронами сосен и елей словно восход поднимается, собственный свет бушует, это листва, к осени насыщенная солнцем, сама излучает, а тут еще рябина добавляет и, невидная все лето, осенью вдруг царственно взыграла.
Желто-оранжевый цвет себя показал, ничуть он не хуже зеленого, с его разнообразием оттенков этот даже ярче, от коричневого до багряного, от рыжего до карминового, апельсинового.
Никогда не было так, чтобы ничего не было, – это про лес. И про дерево: вот существо, почитаемое мною, оно восхищает своей самоотверженной прелестью. После смерти оно продолжает служить избой, мебелью, стропилами, по-новому красиво, надежно, оно всегда теплое.
Машина едет по лесному проселку, и между черными елями – желтые облачка берез. День серый, от этого краски разгораются ярче, такой силы этот осенний цвет, что, кажется, тень может от него появиться на земле.
* * *
Человек приговорен к смерти. За что приговорен – неизвестно. Когда исполнят приговор – неизвестно. Он убежден, что осудили его несправедливо. Кому пожаловаться, кому подать кассацию – неизвестно. Как только он решает плюнуть на все это и жить в свое удовольствие, за ним приходят и увозят, куда – неизвестно.
* * *
Теперь уже не разобрать, кто воевал в артиллерии, кто в редакции, кто в банно-прачечном отряде. Все ветераны, все с колодками орденов, все 9 Мая обнимаются и принимают цветы. А есть такие, что выхлопотали себе инвалидные книжки, доказали, что недавно приобретенная подагра или радикулит окопного происхождения.
Молотов вещал, что Германия стремится к миру, а Англия и Франция – за войну, это средневековье.
Заблуждался? Кое-как объяснимо. Мог так думать, да еще политика заставляла. Историки старались оправдать и его, и других.
Война закончилась. После нее Молотов прожил еще 41 год! Бог ты мой – целую жизнь! Было время объясниться с Историей, поправить себя, оставить какую-то ясность. Нет, не захотел. Все, что делал, правильно, честно, мудро, иначе было нельзя, никаких покаяний, фиг вам!
* * *
Немцы всё кричали «ура!» Гитлеру, доносили гестаповцам, потом в ГДР стали доносить «Штази» на тех, кто смотрит западное TV. Теперь они требуют выяснить, кто из новых депутатов был связан с КГБ.
Немец, молодой, веселый, сказал мне: «Какая у вас плохая туалетная бумага, как вы живете, я взял кусок показать у нас в ФРГ, чем вы подтираетесь».
В ГДР было 85 000 штатных сотрудников «Штази».
Как одинаково распадались режимы в Болгарии, ГДР, Чехословакии, и как глупо вели себя при этом правители.
Карл Т. вступил в компартию, чтобы сделать карьеру, теперь вышел, чтобы опять продвинуться.
* * *
Как хороши поначалу были слова Ольги Берггольц на памятнике Пискаревского кладбища: «Никто не забыт и ничто не забыто».
Как они согревали всех нас, и блокадников, и солдат. Они звучали точно клятва государства.
Прошли годы, и они незаметно превратились в упрек: что же вы, господа хорошие, забыли и нас, и все, что было? Одно за другим приходят письма: «Я, инвалид I группы Красавина Тамара, наша мама всю жизнь трудилась дворником, вечерами в прачечной стирала людям… Мы считаемся блокадниками, и что? У нас есть бедные и богатые. Бедные живут на 2000 рублей, а богатые едут в Италию и Париж. И им все мало».
Ольга Федоровна верила, что слова ее, высеченные на камне одного из главных памятников Великой Отечественной, не устареют, они были как формула, как закон.
* * *
В блокаду мы на фронте стреляли ворон. Охотились за ними больше, чем за немцами. Ездили еще на «пятачок» охотиться, там можно было подхарчиться за счет убитых, которыми питались вороны.
* * *
Получил боец посылку, понес, заблудился, попал к немцам, не растерялся, сказал: ведите к офицеру – мой командир посылает вам на Новый год. Отпустили. Случилось это на Ленинградском фронте. Сценаристы попользовались для фильма – получилась выдумка.
* * *
Как же так случилось, что я стал седым?
А и сам не помню – был ли молодым.
Воевал ли я, может, то был другой, а может, меня убили, а остался кто-то другой?
* * *
9 мая 1945 года Эренбург ночью написал стихи «В мае 1945». Кончаются они так:
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал – закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.
В те же дни Абакумов писал Сталину донос на Эренбурга.
* * *
То и дело открываются тайны прошлого: обстоятельства убийства Кирова, смерть Сталина, расстрел Берии, сведения про Жукова, про Хрущева… Раскрываются всё новые и новые тайны, публикуются легенды, подозрения, слухи о нераскрытых преступлениях, документах…
Блокадная память
Записывая рассказы блокадников, мы чувствовали, что рассказчики многое не в состоянии воскресить и вспоминают не подлинное прошлое, а то, каким оно стало в настоящем. Это «нынешнее прошлое» состоит из увиденного в кино, ярких кадров кинохроники, книг, телевидения. Личное прошлое бледнеет, с годами идет присвоение «коллективного» – там обязательные покойники на саночках, очередь в булочную, «пошел первый трамвай». Нам с Адамовичем надо было как-то вернуть рассказчика к его собственной истории. Нелегко преодолеть эрозию памяти. Это было сложно, тем более что казенная история противостояла индивидуальной памяти. Казенная история говорила о героической эпопее, а личная память – о том, что уборная не работала, ходить «по-большому» надо было в передней, или на лестнице, или в кастрюлю, ее потом нечем мыть, воды нет…
Мы расспрашивали об этом, о том, что было с детьми, как раздобыли «буржуйку», сколько дней получали хлеб за умершего.
* * *
Когда-то римский сенатор Катон повторял: «Карфаген должен быть разрушен». А мой друг говорил: «А Ленинград – восстановлен!»
* * *
«Я установил, что я бездарен, поэтому нет смысла оставаться порядочным. Талантливый человек, когда согрешит, его будут осуждать, вздыхать. Порядочность его украшает. Меня ничто не украсит, а расходы на порядочность большие, прославить она не может. Нет уж, тем более что подлости у меня получаются».
Я так и не мог понять, издевался Игорь Федорович над собой или хотел меня вызвать на откровенность. Мы выпили еще, и я стал его утешать, вспомнил, какой замечательный капустник он сочинил. Он прослезился, повеселел, похоже, что это ему и надо было.
«В начале мая…»
В начале мая деревья покрылись зелеными мушками. Нет, не покрылись, а задымились, зеленый прозрачный дымок от первых листочков. Тень появилась – светлая, редкая, пахучая. Я в нее окунулся. Дул ветерок, но ни березки, ни липы на него не отзывались, нечем им было, они еще бесшумны. Солнце делает новорожденные листики прозрачно-зелеными, яркими, от этой детской чистоты природы меня охватывает восторг, на душе весело и молодо, как там, где тоже ликует зелень в солнце, хочется, да нет, ничего не хочется, а просто восторг. Стою и улыбаюсь. Иду и улыбаюсь.
Я хожу в эту рощу часто, знаю каждое дерево, молодняк не различаю, а вот с коренными знакoм.
Хорошо здесь к концу сентября, тогда в лесу пылает осеннее пламя. С дороги там над темными кронами сосен и елей словно восход поднимается, собственный свет бушует, это листва, к осени насыщенная солнцем, сама излучает, а тут еще рябина добавляет и, невидная все лето, осенью вдруг царственно взыграла.
Желто-оранжевый цвет себя показал, ничуть он не хуже зеленого, с его разнообразием оттенков этот даже ярче, от коричневого до багряного, от рыжего до карминового, апельсинового.
Никогда не было так, чтобы ничего не было, – это про лес. И про дерево: вот существо, почитаемое мною, оно восхищает своей самоотверженной прелестью. После смерти оно продолжает служить избой, мебелью, стропилами, по-новому красиво, надежно, оно всегда теплое.
Машина едет по лесному проселку, и между черными елями – желтые облачка берез. День серый, от этого краски разгораются ярче, такой силы этот осенний цвет, что, кажется, тень может от него появиться на земле.
* * *
Человек приговорен к смерти. За что приговорен – неизвестно. Когда исполнят приговор – неизвестно. Он убежден, что осудили его несправедливо. Кому пожаловаться, кому подать кассацию – неизвестно. Как только он решает плюнуть на все это и жить в свое удовольствие, за ним приходят и увозят, куда – неизвестно.
* * *
Теперь уже не разобрать, кто воевал в артиллерии, кто в редакции, кто в банно-прачечном отряде. Все ветераны, все с колодками орденов, все 9 Мая обнимаются и принимают цветы. А есть такие, что выхлопотали себе инвалидные книжки, доказали, что недавно приобретенная подагра или радикулит окопного происхождения.