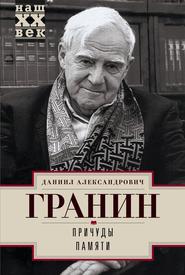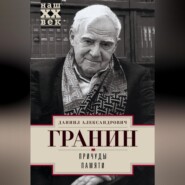По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сочинения. Том 2. Иду на грозу. Зубр
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Почему-то все считали, что его разобидели академики и это из-за них он хочет покинуть завод. С ним обращались как с больным, осторожно, стараясь не тронуть раны, говорили о футболе, он отвечал принужденной улыбкой, но глаза его оставались глухими.
Директор подписал приказ о назначении его старшим конструктором; через месяц заканчивается заводской дом, ему обещали дать комнату; Ада выхлопотала ему путевку в дом отдыха, – но он стоял на своем: он уходит с завода. Куда? В институт к Данкевичу. Кем? Кем угодно. Ада была уверена, что это просто каприз, блажь. Идти к Данкевичу, который так хамски отнесся к нему! Это же бред. И зачем он нужен Данкевичу? Лично она презирала эти академические институты с их вельможами, схоластами, вокруг самой простой вещи набормочут заумных терминов. Слава богу, она достаточно насмотрелась дома, у своего отца, на эту писанину, лишенную радости живого дела. На заводе Крылов через год может стать заместителем главного. А потом, пожалуйста, если его так тянет наука, защитит диссертацию. В науку надо въезжать на белом коне, а не стучаться нищим, не имея ничего за душой.
Слова Ады отскакивали от него: до сих пор он был послушной глиной в ее руках, и вдруг глина оказалась цементом.
– Может быть, из меня ничего не выйдет, но я хочу попробовать… – твердил он.
Здание, которое она с таким трудом выстраивала, его карьера, которая начала налаживаться, вся его репутация на заводе, работы, которые она задумала для него, – все-все затрещало, зашаталось.
Даже беспечный Долинин и тот осуждал его: «Чего ты вытрющиваешься? Лучше быть первым парнем в деревне, чем последним в городе». С той же горячностью, с какой его защищали, все возмутились его решением. Его называли неблагодарным, обвиняли в честолюбии. По-своему они были правы: он был обязан заводу слишком многим. Гатенян не захотел с ним попрощаться.
Если бы можно было объяснить им всем!
Ада поставила ему ультиматум – или он останется, или между ними все кончено. Что значит «все»? – недоумевал он. Почему они не могут остаться друзьями как были?
– Друзьями? – Она с ненавистью посмотрела на него и вдруг заплакала.
Это было так не похоже на нее, так ужасно было видеть, как по ее белому, неподвижно-мраморному, строгому лицу скатываются слезы, что он почувствовал себя свиньей.
– Ну хорошо, я останусь, – в отчаянии сказал он. – Только не плачь. Пожалуйста.
Невозможно было представить, что эта красивая девушка плачет из-за него. Он не понимал, что происходит. Ада вытерла слезы. «Не нужно жертв. Уходи. Катись. Теперь это уже не имеет значения».
– Боюсь, что из тебя никогда не получится настоящего ученого, – сказала она. – Ты слишком ненаблюдателен.
Внезапное подозрение охватило его, он пытался всмотреться – Даная – и успокоился: это было бы слишком невероятно.
Из него ничего не получится – вот что угнетало его больше всего. То же самое говорил ему Тулин. Два самых близких ему человека пришли к одному и тому же.
В сущности, никому он толком не мог объяснить, как же произошло, что талант, «главный теоретик», лопнул, подобно мыльному пузырю.
Отчего лопаются мыльные пузыри? Теперь он представлял себе, как это происходит. Чьи-то губы раздувают каплю, она растет, блестящая пленка играет всеми цветами радуги.
На ее поверхности отражается небо, искривленные дома, люди. Пузырь считает себя целой планетой. Все, что он отражает, – это и есть настоящее. Это его дома, его люди. Он несет их на себе, и как доказать ему, что это все – лишь отражение! Он считает наоборот: земля и люди – сами всего лишь уродское отражение его красоты. Он отрывается и летит, понятия не имея о ветре или какой-то конвекции воздуха.
Пузырь летит. Он уже не принадлежит никому, он сам себе хозяин. Он – Вселенная. У него свои законы. Он не подчиняется вашим Ньютонам, тяготениям, вашей механике. У него все свое, даже своя электростатика. Ах, какой он прекрасный, этот пузырь! Зря он не раздулся еще больше. Попробовать, что ли?
И вдруг – кр-рак! Лопнул. Не осталось ничего… Мутные брызги. Куда исчез этот сверкающий всеми красками мир с его законами, небом, землей?
Но прежде чем он лопнул, им вволю наигрались.
С отвращением он вспоминал, как, выпятив грудь, он взошел на кафедру, пижонски раскрыл кожаную папку, вытащил оттуда свои бумажки. Первые минут пять его слушали с любопытством. Потом перебили вопросом. Он только готовился приступить к выводу, а его уже спрашивали о конечной формуле, еще не написанной на доске. Откуда они узнали о ней? Пока он недоумевал и собирался с мыслями, кто-то ответил за него, тогда они спросили еще что-то у того, кто ответил, и уже тот снова отвечал, а Крылов еще переваривал его первый ответ и не мог уследить, о чем они говорят. Они спрашивали и сами отвечали, и он отставал от них все дальше и дальше. Словно вспомнив о нем, а скорее ради потехи, они попросили его объяснить механизм переноса зарядов. Он несколько опомнился, принялся рассказывать, но тут же кто-то вежливо указал неточность и доказал необходимость введения поправки. Крылов вынужден был согласиться, попробовал идти дальше, но из поправки следовала другая, его уже не отпускали, перекидывали от одного к другому, не позволяя вернуться к своему выводу. Он чувствовал, что куда-то летит в сторону, и ничего не мог поделать; там, где заряды отталкивались, там они стали притягиваться, плюс превращался в минус, и он не заметил, как пришел к полному абсурду, доказал совсем обратное тому, что у него должно было получиться. Он был игрушкой в их руках. За какие-то полчаса они распотрошили теорию, которую он вынашивал полгода, увидели там то, чего он до сих пор не мог понять, обогнали его, вволю натешились, а он стоял и моргал глазами, даже не в силах участвовать в их споре. Невежество было бы еще с полбеды, самое унизительное заключалось в том, как медленно, тупо он соображал. Ржавые колеса, скрипя, еле поворачивались в его мозгу.
Впервые он понял, что такое настоящие таланты. Они казались ему великанами, сонмом богов. С виду они ничем не отличались от обычных людей: помятые рубашки, засученные рукава, студенческие выражения – «потрепаться», «влипнуть», «мура»; там были ребята его возраста – растрепанные, насмешливые; они курили те же болгарские сигареты, сидели верхом на стульях, но при этом перекидывались фразами, расстояние между смыслом которых Крылову потребовалось бы преодолеть часами напряженных раздумий.
Он попал на Олимп. Бессмертные боги смеялись над ним, и он не мог обижаться – разве можно обижаться на богов? Перед ними можно лишь чувствовать собственное ничтожество.
Юпитером среди них был Данкевич, боги звали его просто Дан, и он разрешал им: вероятно, среди богов все возможно.
Отныне Крылов принадлежал им.
– Нонсенс, – сказал Данкевич. – Разве мы вам ничего не доказали?
– Доказали, – сказал Крылов.
– Что именно?
Требовалось усилие, чтобы смотреть прямо в неправдоподобно черные, блестящие глаза Данкевича.
– Что я тупица, невежда, ничего не знаю.
– Незнание и невежество – вещи разные. Незнание начинается после науки, невежество – до нее. У вас болезнь серьезней: ваш мозг заражен невежественными идеями.
– Совершенно верно, – сказал Крылов.
– Наука – это не самодеятельность.
– Да, – сказал Крылов.
– Нам некуда деваться от молодых гениев, считающих себя Эйнштейнами и Резерфордами. Все они создают новую картину Вселенной. Физика стала слишком модной наукой. В данный момент у меня нет свободного места научного сотрудника.
– Я согласен лаборантом.
– И на лаборанта нет вакансии.
– Я уже взял расчет, – сказал Крылов.
Тонкий, гибкий Данкевич выпрямился, как лезвие.
– На меня такие штучки не действуют. Возвращайтесь на завод. Там ваши идеи не опасны, а дело вы делаете.
– Я не вернусь.
На узком нервном лице Данкевича мелькнула и мгновенно пропала насмешливая улыбка.
– Однако… Самое решительное начало ничего не значит без конца. Разумеется, вы не сомневались, что я жду не дождусь вашего прихода. Что ж вы будете делать?
– Я буду у вас работать.
Данкевич посмотрел на него с любопытством:
– Интересно, каким образом?
Однажды, приехав к Данкевичу со своим шефом профессором Чистяковым, Тулин увидел из окна кабинета Крылова. Вместе с рабочими он сгружал во дворе ящики с грузовика. Тулин попросил разрешения выйти и побежал вниз. Крылов улыбался как ни в чем не бывало – он устроился слесарем в институтскую мастерскую. Дальше будет видно. Он взвалил на спину ящик и, пригибаясь, понес к складу. Тулин шел рядом с ним.
– Хочешь, я поговорю с Чистяковым и устрою тебя к нам?
– Нет, я буду работать здесь, – сказал Крылов.