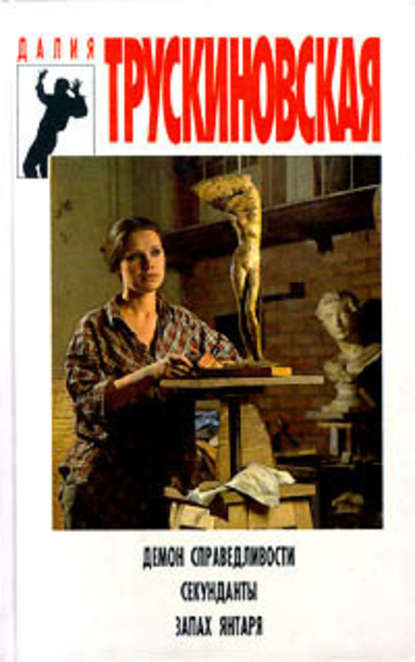По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Секунданты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не могу слышать эту песню… – сказал тот мужчина в сюртуке.
– Я все понимаю, Сашенька, – ответила женщина.
– Но ты спой, – вдруг попросил он.
И тут стали таять загадочные нотные закорючки, остался только лист, он тоже куда-то исчез, рухнула стенка между Валькой и теми, кто слушал занудное сочинение Широкова. Теперь и у него в ушах звучал рассудительный голос.
– «Не могу же я вовсе без книг обойтись, – говорит Александр. – Приучен читать, душа моя, притом же, читая пренудное сие сочинение, внутренне я веселился, потому что скушнее написать невозможно». «И только ради этого?» – спрашивает она. «Только ради этого, – отвечает он. – Еще несколько времени – и попрошу я, чтобы мне прислали Четьи-Минеи, чтением которых я развлекался зимой двадцать четвертого года. Но тогда ко мне был приставлен святой отец, дабы я от сей книжицы не уклонялся. А ныне чтения от меня требуешь ты, душа моя, и я даже не могу подпоить тебя ромом, как того монашка…»
Валька посмотрел по сторонам – Широкова не перебивали, но и удовольствия его пьеса никому не доставляла.
– «Ты теряешь чувство меры, мой друг», – заметила Мария. «В том же я могу упрекнуть и тебя». «Меня?» – испугалась она. «А кто иной постоянно мне напоминает, что я сижу в этой проклятой тайге без дела, что я позабыт всем миром, что бездарные писаки заполонили петербургские альманахи, и ты же еще спрашиваешь меня, не желательно ли мне подержать в руках такой журналец! А время меж тем идет, и более десяти лет я не видел ни одной своей строки ни в журналах, ни в альманахах, только в наших блуждающих тетрадках, которых хорошо коли шесть штук наберется. А господ читателей – хорошо, коли вчетверо больше, считая грудных младенцев!…»
Широков замолчал, выпил с полчашки кофе и продолжал читать этот скучный, невзирая на восклицания, разговор.
– Мария ничего не ответила и лишь поднесла платок к глазам. Александр стремительно подошел к ней, опустился на колени и взял ее руки в свои. «Прости меня, – сказал он. Это просто меня гнетет безысходность. Когда человеку в расцвете творческой поры предоставлены три права: выть от смутной тоски по лучшему миропорядку, заниматься самобичеванием или же ковырять в носе…»
– Стоп, стоп, враки! – закричала Изабо. – Тут ты загнул! Насчет ковыряния в носе – это тебе не пушкинский афоризм!
– А все остальное – из этого самого Пушкина? – удивленно спросил Валька.
– Мы не знаем, что говорил в Сибири Пушкин Марии Волконской, но этого он сказать ну никак не мог, – ответила ему Изабо. – Это сказал совсем другой человек. Анатолий думал о нем, когда писал пьесу, вот его афоризм туда и попал.
– Его там нет, – возразил Широков и в доказательство предъявил машинописный лист.
– Ты думал, иначе мы не догадаемся, кого ты вывел в образе Пушкина? – спросила Изабо.
– Нет, не то… Я проверял реакцию, что ли… Я писал эту пьесу и воспроизводил на внутреннем магнитофоне интонации Чеськи. Ну, мне нужно было, чтобы они естественно возникали в пушкинском монологе…
– Возникли, – сказала Верочка. – Даже не по себе стало. Я смотрела, слушала и не понимала, зачем вообще Изабо затеяла этот балаган! С пьесой и тортом! А потом до меня дошло, насколько это смешно… и вообще…
Но ей уже не было смешно, с ней сегодня творилось неладное, она так мотала головой, что хвост каштановых волос носился за спиной, со свистом задевая стенку. И кулачки полупрозрачные закаменели, и она трясла этими бессильными кулачками, как будто этим могла что-то объяснить остолбеневшему Широкову и вдруг утратившей азарт Изабо. Карлсон крепкой лапой обнял ее за плечи, унял дрожь, пододвинул к ней чашку с остывшим кофе и принялся вполголоса уговаривать выпить и успокоиться.
– Твоя пьеса в таком виде интересна только нам троим, и она даже не пьеса, – сурово говорила тем временем Изабо Широкову. – В ней нет действия и не предвидится. Всего два персонажа…
– Но Чесс задумывал именно так – Александр Пушкин и Мария Волконская! Я точно знаю.
– Откуда мы знаем, что он задумывал! Он рассказал тебе про Пушкина и Волконскую, потому что вычитал о них в «Вопросах литературы» какую-то гипотезу. А потом стал фантазировать дальше.
– Я пытаюсь разгадать, что хотел сказать этой пьесой Чесс, – не унимался Широков.
– И вообще можно съездить за цветами и шампанским! – нес ахинею Карлсон, и это непостижимым путем успокаивало Верочку. – Ты когда-нибудь пила шампанское в бане? Ну, в недостроенной? Я сейчас подгоню машину и рванем за бутылкой! Извиняй, Анатолий, слушатели из нас никудышные. Вот когда твою пьесу поставят и по телевизору покажут, я под нее даже бутерброд жевать не буду, честное слово!
– Мне убрать рукопись? – спросил Широков.
– Давай сюда! – приказала Изабо. – Мы лучше прочитаем все по очереди. Так будет умнее всего. И без всякого балагана.
Она покосилась на Верочку. Но та уже пила остывший кофе, преданно глядя в глаза симпатяге и специалисту по дамской истерике Карлсону.
Дальнейший разговор был самый бестолковый – одновременно Широков пересказывал содержание следующей сцены, где Пушкин рассуждал о своей несостоявшейся дуэли с Толстым-Американцем, цитировал наизусть здоровенные куски из дуэльного кодекса и клял друга-демона, отравившего всю его жизнь, – Раевского; Верочка вспоминала что-то типографское; Изабо требовала от Карлсона, чтобы он наконец врезал ей новый замок; Валька делил торт. В разговоре этом выяснилось, кстати, что Микитин уехал из города на месяц и вернется к началу июня, не раньше. Валька понял, что и эта поездка в мастерскую была в сущности бесполезна. Он засобирался домой.
Услышав слово «теща», Карлсон проникся к нему неслыханным сочувствием и обещал доставить прямо к дому на своем «Москвиче», все-таки не час на дорогу, а в худшем случае двадцать минут. Он предложил свои услуги и Широкову, тот не отказался и вопросительно посмотрел на Верочку, но она сообщила, что переночует в мастерской, им есть о чем поговорить вечером с Изабо.
Сообщение это явно не обрадовало ни Карлсона, ни Широкова. А Валька решил для себя, что его эти проказы не касаются и ему они безразличны.
Карлсон выбрал объездную дорогу, которая под вечер была совершенно пустынна.
Валька с Широковым, сидя на заднем сиденье, говорили о дизайнерских курсах, когда Карлсон вдруг остановил машину и повернулся к ним.
– Разговорец есть, – решительно сказал он.
Широков отвернулся и уставился в окошко.
– Ты, Валентин, парень умный, – задушевно начал Карлсон, – и все поймешь без рассусоливаний. Тебе лучше больше не появляться в мастерской у Гронской. Лучше для всех…
Валька посмотрел на Широкова, но тот приклеился взглядом к окошку.
– Вот и Анатолий подтвердит, – жестко сказал Карлсон.
Широков неохотно повернулся и набычил круглую голову. Это, видимо, означало кивок.
– А что случилось? – как можно хладнокровней и независимей спросил Валька. – Я поперек дороги кому-то встал? Или кого-то обидел? Так я вернусь и извинюсь!