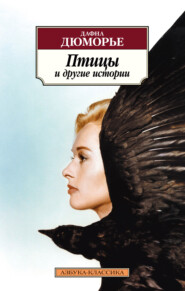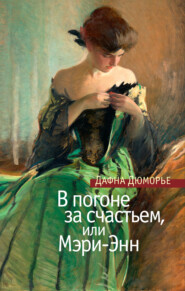По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Синие линзы и другие рассказы (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он условился с Эдной отложить отпуск до середины сентября – тогда он сможет закончить работу над автопортретом, который завершит серию. Отпуск в Шотландии будет приятным, приятным впервые за все эти годы – ведь теперь у него есть причина ждать возвращения в Лондон.
Короткое утро, которое он проводил в конторе, теперь не шло в счет. Он с грехом пополам справлялся с текущими делами и никогда не возвращался после ланча. Коллегам он говорил, что его другие обязательства становятся всё настоятельнее с каждым днем: фактически он решил порвать с этой фирмой в течение осени.
– Если бы вы не предупредили нас, мы бы предупредили вас, – сухо сказал ему старший партнер.
Фентон пожал плечами. Ну что же, если им угодно ссориться, то чем раньше он уйдет, тем лучше. Он вообще мог бы написать им из Шотландии, тогда всю осень и зиму он посвятил бы живописи. Можно снять настоящую мастерскую: в конце концов, номер 8 – лишь временное пристанище. А в большой мастерской с хорошим освещением и кухонькой при ней – как раз такие строятся всего через несколько улиц – было бы хорошо и зимой. Там бы он смог по-настоящему работать, действительно чего-то добиться и не чувствовать себя всего-навсего любителем, работающим урывками.
Автопортрет целиком поглотил его. Мадам Кауфман разыскала зеркало и повесила его для Фентона на стену, так что начать было довольно просто. Но он обнаружил, что не может написать свои глаза. Их пришлось писать закрытыми, и он стал похож на спящего. На больного. Это производило жутковатое впечатление.
– Итак, вам не нравится? – спросил Фентон мадам Кауфман, когда та зашла сказать, что уже семь часов.
Она покачала головой и сказала:
– У меня от такого мурашки по спине, как у вас говорят. Нет, мистер Симс, это не вы.
– Ультрасовременно, даже слишком, на ваш вкус? – бодро заметил он. – Я полагаю, тут подходит термин «авангардизм».
Сам он был в восторге. Автопортрет – произведение искусства.
– Ну, пока что довольно, – сказал он. – На следующей неделе я уезжаю отдыхать.
– Уезжаете?
В ее голосе прозвучала нота такой тревоги, что он обернулся и взглянул на нее.
– Да, повезу свою старую мать в Шотландию. А что?
Она пристально смотрела на него взглядом, полным муки, и выражение ее лица резко изменилось. Можно было подумать, что он нанес ей страшный удар.
– Но у меня же нет никого, кроме вас, – сказала она. – Я буду одна.
– Разумеется, вы получите ваши деньги, – торопливо сказал он. – Я дам их вам вперед. Да мы и едем на каких-нибудь три недели.
Она все так же пристально смотрела на него, и вдруг – вот тебе и на! – глаза ее наполнились слезами и она заплакала.
– Я не знаю, что мне делать, – сказала она. – Я не знаю, куда мне идти.
Этого еще не хватало! Ну и что же, позвольте спросить, она имеет в виду? Что ей делать и куда идти! Он обещал ей деньги. Ей просто надо продолжать жить, как она жила раньше, до него. Серьезно, если она собирается вести себя подобным образом, то чем раньше он подыщет себе мастерскую, тем лучше. Уж меньше всего на свете ему хочется нянчиться с мадам Кауфман.
– Знаете ли, моя милая мадам Кауфман, я здесь не навсегда, – сказал он твердо. – Вскоре я перееду. Возможно, этой осенью. Мне нужно большее помещение. Разумеется, я извещу вас заранее. Но, может быть, вам имеет смысл отдать Джонни в детский сад и поступить куда-нибудь приходящей прислугой? В конце концов, так будет лучше для вас же.
Право, такое впечатление, будто он избил ее. Она была ошеломлена и совершенно подавлена.
– Что же мне делать? – тупо повторяла она и затем спросила, как будто все еще не веря: – Когда вы уезжаете?
– В понедельник, – ответил он, – в Шотландию. Мы будем в отъезде три недели. – Последнюю фразу он подчеркнул, чтобы не оставалось никаких сомнений на этот счет. Беда в том, что она очень неумна, решил он, моя руки над кухонной раковиной. Она хорошо заваривает чай и умеет мыть кисти – вот и все. – Вам бы тоже следовало отдохнуть, – сказал он ей бодро. – Взяли бы и съездили с Джонни по реке в Саутенд или еще куда-нибудь.
Ответа не последовало. Лишь скорбный взгляд и безнадежное пожимание плечами.
Следующий день, пятница, – конец его рабочей недели. Утром он получил деньги по чеку, с тем чтобы заплатить ей за три недели вперед. Он добавил пять фунтов сверху ей в утешение.
Подойдя к номеру 8, он увидел Джонни, привязанного к скребку на старом месте, на верхней площадке лестницы. Она уже перестала привязывать мальчика. Когда Фентон, как обычно, вошел с черного хода в подвал, радио не работало и дверь в кухню была закрыта. Он открыл ее и заглянул. Дверь в спальню тоже закрыта.
– Мадам Кауфман?.. – позвал он. – Мадам Кауфман?
Она ответила через минуту глухим и слабым голосом.
– Что? – спросила она.
– Что-нибудь случилось?
Еще пауза, и затем:
– Я не очень хорошо себя чувствую.
– Простите, – сказал Фентон. – Могу ли я чем-нибудь помочь?
– Нет.
Ну вот, пожалуйста. Явная демонстрация. Она никогда не выглядела совсем здоровой, но такого раньше не проделывала. Она и не подумала приготовить ему чай: даже поднос не поставлен. Он положил конверт с деньгами на кухонный стол.
– Я принес ваши деньги, – сказал он. – Всего двадцать фунтов. Почему бы вам не погулять и не потратить часть этих денег? Чудесный день, вам было бы полезно выйти на воздух.
Бодрый тон – ответ на ее поведение. Он не позволит вымогать у себя сочувствие подобным образом!
Он прошел в мастерскую, решительно насвистывая, и возмутился, обнаружив, к своему крайнему удивлению, что все там в том виде, как он оставил накануне вечером. Немытые кисти все так же лежат на испачканной палитре. К комнате даже не притрагивались! Ну в самом деле, дальше ехать некуда! Прямо руки чешутся забрать конверт с кухонного стола. Зря он заикнулся об отпуске – надо было послать деньги по почте во время уик-энда и приложить к переводу записку, что он уехал в Шотландию. А теперь вот что получилось… этот возмутительный приступ дурного настроения, пренебрежение своими обязанностями. Конечно, это оттого, что она иностранка. Им совершенно нельзя верить. Всегда кончается тем, что в них разочаровываешься.
Он вернулся на кухню с кистями, палитрой, скипидаром и тряпками и до отказа открыл краны, стараясь делать все как можно более шумно: пусть знает, что ему приходится выполнять грязную работу самому. Он гремел чашкой и громыхал жестянкой, в которой она держала сахар, но из спальни – ни звука. Ладно, черт с ней, пусть взвинчивает себя дальше.
Вернувшись в студию, он поработал спустя рукава, добавляя последние штрихи к автопортрету, но никак не мог сосредоточиться. Ничего не получалось: в автопортрете не было жизни. Она испортила ему весь день. Наконец, на час с лишним раньше обычного времени, он решил пойти домой. Однако после вчерашнего он вынужден был заняться уборкой сам, не надеясь на нее. Она способна три недели ни к чему здесь не притронуться.
Перед тем как составить полотна вместе, он выстроил их в ряд, прислонив к стене, и попытался представить себе, как бы они выглядели, если их развесить на выставке. Они бросаются в глаза, в этом нет сомнения. Мимо них нельзя пройти. Во всей коллекции есть нечто… пожалуй, нечто выразительное. Он не знает, что именно, – естественно, ему трудно судить о собственной работе. Но… например, вот эта голова мадам Кауфман – та самая, в которой, по ее мнению, есть что-то рыбье. Ну что ж, возможно, и есть какое-то сходство с рыбой в форме рта… или дело в глазах, которые слегка навыкате? Все равно, работа блестящая. Он уверен, что блестящая. И хотя автопортрет спящего не завершен, в нем есть какая-то значительность.
Он улыбнулся, уже видя, как они с Эдной заходят в одну из маленьких галерей неподалеку от Бонд-стрит и он небрежно роняет: «Мне говорили, здесь выставка какого-то новенького. Очень спорный. Критики не могут разобрать, гений он или сумасшедший». А Эдна: «Наверно, ты впервые заходишь в подобное место». Какое ощущение силы, какое ликование! А потом, когда он объявит ей новость, в ее взгляде появится проблеск нового уважения. Осознание того, что ее муж наконец, после стольких лет, добился славы. Ему хочется именно такого шока от изумления. Вот именно! Шока от изумления…
Фентон окинул прощальным взглядом знакомую комнату. Полотна составлены, мольберт разобран, кисти и палитра вычищены, вытерты и завернуты. Если он решит удрать, когда вернется из Шотландии, – а он абсолютно уверен, что это единственно правильное решение после дурацкого поведения мадам Кауфман, – то все готово к переезду.
Он закрыл окно и дверь и, неся под мышкой пакет с тем, что он называл «брак» – ненужные эскизы, наброски и всякий хлам, накопившийся за неделю, – еще раз прошел на кухню и позвал через закрытую дверь спальни.
– Я ухожу, – сказал он. – Надеюсь, завтра вам будет лучше. Увидимся через три недели.
Он заметил, что конверт исчез с кухонного стола. Значит, ей не так уж и плохо.
И тут он услышал, как она ходит по спальне, и через одну-две минуты дверь приоткрылась на несколько дюймов: она стояла у самой двери. Он был поражен. Выглядела она ужасно: в лице ни кровинки, волосы, прямые и сальные, не причесаны. Она обернула вокруг пояса одеяло, и, хотя день был жаркий и душный, а воздух в подвале спертый, на ней был толстая шерстяная кофта.
– Вы показывались доктору? – спросил он с некоторым участием.
Она покачала головой.
Короткое утро, которое он проводил в конторе, теперь не шло в счет. Он с грехом пополам справлялся с текущими делами и никогда не возвращался после ланча. Коллегам он говорил, что его другие обязательства становятся всё настоятельнее с каждым днем: фактически он решил порвать с этой фирмой в течение осени.
– Если бы вы не предупредили нас, мы бы предупредили вас, – сухо сказал ему старший партнер.
Фентон пожал плечами. Ну что же, если им угодно ссориться, то чем раньше он уйдет, тем лучше. Он вообще мог бы написать им из Шотландии, тогда всю осень и зиму он посвятил бы живописи. Можно снять настоящую мастерскую: в конце концов, номер 8 – лишь временное пристанище. А в большой мастерской с хорошим освещением и кухонькой при ней – как раз такие строятся всего через несколько улиц – было бы хорошо и зимой. Там бы он смог по-настоящему работать, действительно чего-то добиться и не чувствовать себя всего-навсего любителем, работающим урывками.
Автопортрет целиком поглотил его. Мадам Кауфман разыскала зеркало и повесила его для Фентона на стену, так что начать было довольно просто. Но он обнаружил, что не может написать свои глаза. Их пришлось писать закрытыми, и он стал похож на спящего. На больного. Это производило жутковатое впечатление.
– Итак, вам не нравится? – спросил Фентон мадам Кауфман, когда та зашла сказать, что уже семь часов.
Она покачала головой и сказала:
– У меня от такого мурашки по спине, как у вас говорят. Нет, мистер Симс, это не вы.
– Ультрасовременно, даже слишком, на ваш вкус? – бодро заметил он. – Я полагаю, тут подходит термин «авангардизм».
Сам он был в восторге. Автопортрет – произведение искусства.
– Ну, пока что довольно, – сказал он. – На следующей неделе я уезжаю отдыхать.
– Уезжаете?
В ее голосе прозвучала нота такой тревоги, что он обернулся и взглянул на нее.
– Да, повезу свою старую мать в Шотландию. А что?
Она пристально смотрела на него взглядом, полным муки, и выражение ее лица резко изменилось. Можно было подумать, что он нанес ей страшный удар.
– Но у меня же нет никого, кроме вас, – сказала она. – Я буду одна.
– Разумеется, вы получите ваши деньги, – торопливо сказал он. – Я дам их вам вперед. Да мы и едем на каких-нибудь три недели.
Она все так же пристально смотрела на него, и вдруг – вот тебе и на! – глаза ее наполнились слезами и она заплакала.
– Я не знаю, что мне делать, – сказала она. – Я не знаю, куда мне идти.
Этого еще не хватало! Ну и что же, позвольте спросить, она имеет в виду? Что ей делать и куда идти! Он обещал ей деньги. Ей просто надо продолжать жить, как она жила раньше, до него. Серьезно, если она собирается вести себя подобным образом, то чем раньше он подыщет себе мастерскую, тем лучше. Уж меньше всего на свете ему хочется нянчиться с мадам Кауфман.
– Знаете ли, моя милая мадам Кауфман, я здесь не навсегда, – сказал он твердо. – Вскоре я перееду. Возможно, этой осенью. Мне нужно большее помещение. Разумеется, я извещу вас заранее. Но, может быть, вам имеет смысл отдать Джонни в детский сад и поступить куда-нибудь приходящей прислугой? В конце концов, так будет лучше для вас же.
Право, такое впечатление, будто он избил ее. Она была ошеломлена и совершенно подавлена.
– Что же мне делать? – тупо повторяла она и затем спросила, как будто все еще не веря: – Когда вы уезжаете?
– В понедельник, – ответил он, – в Шотландию. Мы будем в отъезде три недели. – Последнюю фразу он подчеркнул, чтобы не оставалось никаких сомнений на этот счет. Беда в том, что она очень неумна, решил он, моя руки над кухонной раковиной. Она хорошо заваривает чай и умеет мыть кисти – вот и все. – Вам бы тоже следовало отдохнуть, – сказал он ей бодро. – Взяли бы и съездили с Джонни по реке в Саутенд или еще куда-нибудь.
Ответа не последовало. Лишь скорбный взгляд и безнадежное пожимание плечами.
Следующий день, пятница, – конец его рабочей недели. Утром он получил деньги по чеку, с тем чтобы заплатить ей за три недели вперед. Он добавил пять фунтов сверху ей в утешение.
Подойдя к номеру 8, он увидел Джонни, привязанного к скребку на старом месте, на верхней площадке лестницы. Она уже перестала привязывать мальчика. Когда Фентон, как обычно, вошел с черного хода в подвал, радио не работало и дверь в кухню была закрыта. Он открыл ее и заглянул. Дверь в спальню тоже закрыта.
– Мадам Кауфман?.. – позвал он. – Мадам Кауфман?
Она ответила через минуту глухим и слабым голосом.
– Что? – спросила она.
– Что-нибудь случилось?
Еще пауза, и затем:
– Я не очень хорошо себя чувствую.
– Простите, – сказал Фентон. – Могу ли я чем-нибудь помочь?
– Нет.
Ну вот, пожалуйста. Явная демонстрация. Она никогда не выглядела совсем здоровой, но такого раньше не проделывала. Она и не подумала приготовить ему чай: даже поднос не поставлен. Он положил конверт с деньгами на кухонный стол.
– Я принес ваши деньги, – сказал он. – Всего двадцать фунтов. Почему бы вам не погулять и не потратить часть этих денег? Чудесный день, вам было бы полезно выйти на воздух.
Бодрый тон – ответ на ее поведение. Он не позволит вымогать у себя сочувствие подобным образом!
Он прошел в мастерскую, решительно насвистывая, и возмутился, обнаружив, к своему крайнему удивлению, что все там в том виде, как он оставил накануне вечером. Немытые кисти все так же лежат на испачканной палитре. К комнате даже не притрагивались! Ну в самом деле, дальше ехать некуда! Прямо руки чешутся забрать конверт с кухонного стола. Зря он заикнулся об отпуске – надо было послать деньги по почте во время уик-энда и приложить к переводу записку, что он уехал в Шотландию. А теперь вот что получилось… этот возмутительный приступ дурного настроения, пренебрежение своими обязанностями. Конечно, это оттого, что она иностранка. Им совершенно нельзя верить. Всегда кончается тем, что в них разочаровываешься.
Он вернулся на кухню с кистями, палитрой, скипидаром и тряпками и до отказа открыл краны, стараясь делать все как можно более шумно: пусть знает, что ему приходится выполнять грязную работу самому. Он гремел чашкой и громыхал жестянкой, в которой она держала сахар, но из спальни – ни звука. Ладно, черт с ней, пусть взвинчивает себя дальше.
Вернувшись в студию, он поработал спустя рукава, добавляя последние штрихи к автопортрету, но никак не мог сосредоточиться. Ничего не получалось: в автопортрете не было жизни. Она испортила ему весь день. Наконец, на час с лишним раньше обычного времени, он решил пойти домой. Однако после вчерашнего он вынужден был заняться уборкой сам, не надеясь на нее. Она способна три недели ни к чему здесь не притронуться.
Перед тем как составить полотна вместе, он выстроил их в ряд, прислонив к стене, и попытался представить себе, как бы они выглядели, если их развесить на выставке. Они бросаются в глаза, в этом нет сомнения. Мимо них нельзя пройти. Во всей коллекции есть нечто… пожалуй, нечто выразительное. Он не знает, что именно, – естественно, ему трудно судить о собственной работе. Но… например, вот эта голова мадам Кауфман – та самая, в которой, по ее мнению, есть что-то рыбье. Ну что ж, возможно, и есть какое-то сходство с рыбой в форме рта… или дело в глазах, которые слегка навыкате? Все равно, работа блестящая. Он уверен, что блестящая. И хотя автопортрет спящего не завершен, в нем есть какая-то значительность.
Он улыбнулся, уже видя, как они с Эдной заходят в одну из маленьких галерей неподалеку от Бонд-стрит и он небрежно роняет: «Мне говорили, здесь выставка какого-то новенького. Очень спорный. Критики не могут разобрать, гений он или сумасшедший». А Эдна: «Наверно, ты впервые заходишь в подобное место». Какое ощущение силы, какое ликование! А потом, когда он объявит ей новость, в ее взгляде появится проблеск нового уважения. Осознание того, что ее муж наконец, после стольких лет, добился славы. Ему хочется именно такого шока от изумления. Вот именно! Шока от изумления…
Фентон окинул прощальным взглядом знакомую комнату. Полотна составлены, мольберт разобран, кисти и палитра вычищены, вытерты и завернуты. Если он решит удрать, когда вернется из Шотландии, – а он абсолютно уверен, что это единственно правильное решение после дурацкого поведения мадам Кауфман, – то все готово к переезду.
Он закрыл окно и дверь и, неся под мышкой пакет с тем, что он называл «брак» – ненужные эскизы, наброски и всякий хлам, накопившийся за неделю, – еще раз прошел на кухню и позвал через закрытую дверь спальни.
– Я ухожу, – сказал он. – Надеюсь, завтра вам будет лучше. Увидимся через три недели.
Он заметил, что конверт исчез с кухонного стола. Значит, ей не так уж и плохо.
И тут он услышал, как она ходит по спальне, и через одну-две минуты дверь приоткрылась на несколько дюймов: она стояла у самой двери. Он был поражен. Выглядела она ужасно: в лице ни кровинки, волосы, прямые и сальные, не причесаны. Она обернула вокруг пояса одеяло, и, хотя день был жаркий и душный, а воздух в подвале спертый, на ней был толстая шерстяная кофта.
– Вы показывались доктору? – спросил он с некоторым участием.
Она покачала головой.