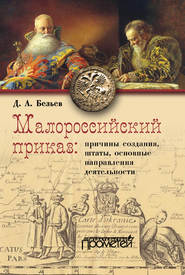По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Украина и Речь Посполитая в первой половине XVII в.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Резюмируя внутриполитические взгляды Б. Хмельницкого и тип того протогосударственного образования, который сформировался в его правление на Украине, авторы пишут: «Богдан Хмельницкий был сторонником сильной централизованной власти; он неоднократно открыто и публично заявлял об этом представителям польского и русского правительств. Однако этому препятствовали прочные демократические традиции запорожского казачества, с одной стороны, и сопротивление старшинской верхушки, воспитанной на “шляхетских вольностях”, – с другой. Все это обусловило то обстоятельство, что молодое украинское государство, сформировавшееся в годы освободительной войны, имело основные черты феодальной республики»[70 - Там же. – С. 227.]. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что авторы утверждают, будто в 1648–1653 гг. на Украине уже сформировалось национальное государство!
Далее авторы останавливаются на том, какие надежды на улучшение своего положения в связи с соединением Украины и Российского государства питали различные сословия народа Украины, по крайней мере, ее наиболее пророссийско настроенной левобережной части. При этом авторы, как и В. О. Ключевский, отмечают наличие существенных противоречий в устремлениях этих сословий и групп населения: «К концу первой половины XVII в. Украина представляла собой узел сложнейших экономических, политических и социальных противоречий»[71 - Там же. – С. 209.].
Кратко упоминают авторы и о так называемых «Мартовских статьях» Богдана Хмельницкого, то есть о тех привилегиях в области самоуправления, которые удалось выторговать ему для Малороссии у российского самодержавия и многие из которых были российской властью аннулированы в течение ближайших лет. Особенно те из них, которые касались внешних сношений гетманской Украины в составе Московского государства.
В 1989 г. вышла в свет книга В. А. Замлинского «Богдан Хмельницкий» в серии ЖЗЛ. В этой книге подробнее дано описание раннего периода жизни Хмельницкого. В частности, автор, основываясь на поздних украинских летописях, дает две версии происхождения Михаила Хмельницкого (отца Б. Хмельницкого) и рассказывает, что образование Богдан получил во Львовском иезуитском коллегиуме («В 1613 году коллегия насчитывала 530 учеников, и количество их с каждым годом увеличивалось»[72 - Замлинский В. А. Богдан Хмельницкий. – М., 1989. – С. 8.]), что он участвовал в 1618 г. в походе будущего короля Владислава Четвертого на Москву, подробнее других авторов освещает его участие в подготовке отряда запорожских казаков для участия во Франко-испанской войне и т. д. Используя письменные источники той эпохи, показывает особую доверительность личных отношений Владислава Четвертого и Богдана Хмельницкого. В книге подробно описываются перипетии Освободительной войны и хода дипломатических переговоров Б. Хмельницкого с Крымом, Молдавией и, конечно, с Московским государством, приведших к присоединению к нему Левобережной Украины. Особо хочется отметить то, что автор, хотя и с купюрами, дает содержание «Мартовских статей» Б. Хмельницкого, оговаривающих условия вхождения Украины в состав России. В целом идея автора состоит в том, что Б. Хмельницкий осознал вековечное чаяние украинского народа освободиться от гнета Польши и воссоединиться с Россией, то есть с Московским государством, и стать подданными царя. Все переговоры с иностранными государями и даже имевшие место сношения с польским правительством (а сношения гетманов с Речью Посполитой и Турцией запрещались договором между гетманом и Российским самодержцем), которые вел Б. Хмельницкий после присяги на верность российскому государству, автор объясняет некоторым непониманием им целей российской политики, возникшим вследствие недостаточного информирования со стороны Московского правительства, а также неопытностью его собственных посланников и кознями полонофила Выговского.
Эмигрантская украинская националистическая историография. Украинские эмигранты образовали весьма большую диаспору в США и Канаде еще в начале XX в., которая значительно пополнилась после Второй мировой войны. Среди украинцев-эмигрантов были историки, хотя многих из них можно отнести и к писателям-публицистам. Попытаемся в весьма сжатом виде представить характерные черты их воззрений на историю Украины первой половины XVII в., на характер взаимоотношений между украинцами и поляками, между Б. Хмельницким и российским правительством и т. д.
И. Лысяк-Рудницкий не оставил после себя фундаментальных работ, но написал весьма большое количество статей по истории Украины, о национальной идентичности украинцев, их взаимоотношениях с соседними народами, о советизации Украины (перечень тем можно продолжать). Эти статьи представляют несомненный интерес для всякого, кто интересуется научным творчеством и публицистикой украинского зарубежья. Какие же мысли высказывал этот ученый относительно украинской истории первой половины XVII в.?
«Мое первое утверждение сводится к тому, что польско-украинские взаимоотношения в большой степени определили исторические судьбы двух народов. Мое второе утверждение состоит в том, что, несмотря на многочисленные примеры взаимообогащения двух народов и их взаимовыгодного сотрудничества, поляки и украинцы в прошлом не основали свои политические отношения на удовлетворительном, а тем более – на прочном фундаменте. Эта неудача и затяжные польско-украинские конфликты в итоге имели катастрофические последствия для обоих народов. Польско-украинский конфликт был действительно главной причиной потери национальной самостоятельности и Украиной, и Польшей в двух различных эпохах – в XVII и в XX веках. <…> Я утверждаю также – это уже в-третьих, – что стороной, несущей главную ответственность за прошлые неудачи в польско-украинских отношениях, являются поляки. <…> Более сильная сторона несет и большую ответственность»[73 - Лысяк-Рудницкий И. Польско-украинские отношения: бремя истории // Между историей и политикой. – М. – СПб., 2007. – С. 165.]. По поводу религиозного и культурного конфликта между Польшей и Украиной автор пишет: «В ходе своей истории Украина была чрезвычайно восприимчивой к западным культурным влияниям. И все же истиной является то, что религия всегда разделяла поляков и украинцев неизгладимой линией размежевания»[74 - Там же. – С. 166.].
По поводу государственного устройства Речи Посполитой и невписанности в эту структуру Украины И. Лысяк-Рудницкий замечает: «По географическим, социологическим и культурным причинам Украина не вписывалась должным образом в структуру Речи Посполитой Двух Народов. Унитарная природа Короны, то есть польской половины Речи Посполитой, вызывала непрестанные трения и злоупотребления, обострявшиеся победой Контрреформации в Польше и ростом религиозного фанатизма в первой половине XVII столетия. Имелось лишь одно потенциальное решение этой проблемы: перестройка Речи Посполитой в тройственный организм через создание третьей автономной единицы, то есть Руси-Украины. <…> Ответственность за этот смертный грех – пренебрежение этим шансом – следует возложить в равной мере на польские и на украинские правящие слои»[75 - Там же. – С. 171.].
О выступлении Б. Хмельницкого, войне и целях ее вождя автор пишет: «Великая казацкая революция 1648 года с гетманом Богданом Хмельницким во главе явилась поворотным пунктом в истории польско-украинских отношений. <…> Революция показала, что украинский народ не принял люблинского решения польско-украинских взаимоотношений. Хмельницкий и его сподвижники поначалу не думали о выходе из Речи Посполитой, их первоначальные цели концентрировались на удовлетворении жалоб казаков и православных и на приобретении для Украины какой-либо ограниченной автономии»[76 - Там же. – С. 173.].
По поводу Переяславского соглашения 1654 г. И. Лысяк-Рудницкий пишет: «Мотив Переяславского соглашения – вовсе не в том, что украинский народ якобы стремился объединиться с русскими братьями, а в понимании казацкой элитой текущих политических интересов своей страны. <…> С помощью России Хмельницкий надеялся покончить с безвыходным положением в войне с Польшей и установить контроль Войска Запорожского над западноукраинскими и южнобелорусскими землями, которые все еще удерживала Речь Посполитая. Ценой этого было признание сюзеренитета или протектората русского царя»[77 - Лысяк-Рудницкий И. Переяслав: история и миф // Между историей и политикой. – М. – СПб., 2007. – С. 152.].
Итак, И. Лысяк-Рудницкий высказывает следующие идеи:
1. Вину за трагическое развитие польско-украинских отношений он, в основном, возлагает на польскую сторону, исходя из соображений формальной логики, безотносительно реальной исторической ситуации, историко-культурного и социального подтекста.
2. Главными причинами этого конфликта он считает религиозную рознь и экономико-социальный конфликт между низшими сословиями Украины с шляхетством и магнатами.
3. Автор выдвигает фантастическую гипотезу о существовании в XVII в. реальной возможности получения Украиной полноценной автономии в рамках Речи Посполитой (при том, что своей национальной полноценной государственности на Украине, в отличие от Литвы, не было).
4. Категорически возражает против российско-советской концепции о воссоединении двух братских народов, считает Переяславское соглашение договором о протекторате.
Другой автор из числа украинских эмигрантов-историков, идеи которого мы рассмотрим – ученик И. Лысяка-Рудницкого Орест Субтельный, автор монографии «Украина. История».
Этот автор лучшим временем в истории Украины считает тот период после Монгольского нашествия, когда большая часть земель и населения будущей Украины входила в Великое княжество Литовское (то есть до 1569 г.). В это время почти не ощущался религиозный гнет, феодальные повинности населения были относительно легки. Автор указывает на то, что «нельзя не сказать и об еще одной важной роли, которую сыграли в Украине сословная система вообще и Литовский статут, в частности. С их введением в сознании украинцев постепенно утверждалась ценность установленных и гарантированных законом прав. Таким образом, украинцы оказывались не чуждыми правовой и политической мысли Запада. Напротив, другое ответвление Киевской Руси – Московия – из-за многовекового подчинения монголо-татарам оказалась изначально отрезанной от развития юридических норм на Западе»[78 - Субтельный О. Украина. История. – Киев, 1994. – С. 109.]. (Автор считает, что Литовский статут впитал в себя не только правовые нормы Киевской Руси, но и многие элементы германского и польского права, особенно в более поздних редакциях 1566 и 1588 гг.).
Причины войны 1648–1654 гг. автор видит в экономическом гнете, попытках закрепостить крестьян-колонистов, свободно обрабатывавших восточноукраинские пустоши и в религиозном гнете со стороны польского католицизма. «Но в отличие от всех других крестьян Речи Посполитой, в том числе и Западной Украины, хлеборобы Надднепрянщины не знали крепостного ярма – и не хотели его знать. Их мало интересовало, кем считали их магнаты, – сами-то они осознавали себя свободными людьми. <…> Многочисленные горожане заявляли, что по определению являются и свободными, и самоуправляемыми. <…> Большинство жителей пограничья свято верили в то, что их право на свободу и древнее, и законнее всех польских законов. И это сознание в свою очередь укрепляло их решимость дать отпор “ляхам”, как они называли поляков. А то, что католики-ляхи еще и преследовали православную веру, только подливало масла в огонь. Мало того, что жители украинского пограничья всегда были готовы к неповиновению и бунту, они к тому же в массе своей прекрасно владели оружием»[79 - Там же. – С. 162.].
О проблеме украинской национальной элиты автор пишет: «В конце XVI – начале XVII вв. культурно-религиозные противоречия вышли на поверхность общественной жизни. <…> Украинское дворянство было поставлено перед трудным выбором. С одной стороны – родная, но истощенная почва духовной традиции, украинская культура, практически лишенная возможности нормального развития. С другой стороны – внешне привлекательная, бьющая через край культурная жизнь католической Польши. Надо ли удивляться, что огромное большинство украинских дворян сделало свой выбор в пользу католицизма и полонизации, не заставившей себя долго ждать. И эта потеря естественной элиты имела эпохальное значение для всей последующей истории Украины»[80 - Там же. – С. 134.].
По поводу Переяславского соглашения: автор не высказывается категорично в пользу какой-либо версии о юридическом статусе Украины в составе России. Но он явно против термина «воссоединение» или «объединение». По косвенным признакам можно предположить, что О. Субтельному ближе трактовка этого договора В. Липинского, который считал его временным военным союзом между Россией и Украиной, а Б. Хмельницкого – основоположником национальной украинской государственности.
Итак, О. Субтельный указывает на следующие важные аспекты:
1. Он считает, что у украинского народа в целом в начале XVII в. была высокая правовая культура, близкая западноевропейской, что, однако, не мешало восточноукраинским земледельцам игнорировать польские законы.
2. Совершенно справедливо указывает на отсутствие у малороссийского народа в XVII в. дееспособной национальной элиты (в то время этой элитой могло быть только дворянство).
3. Причины восстания, охватившего Украину в 1648 г., он видит в экономическом и религиозном гнете со стороны польского дворянства (или полонизованного) и государственной католической церкви.
4. Категорически возражает против трактовки Переяславского договора как добровольного воссоединения украинского народа с русским.
Сделаем теперь общий вывод. Для украинской националистической историографии в целом характерны следующие взгляды: 1) украинский народ гораздо более «европейский», чем русский; 2) причины восстания 1648 г. лежат, в основном, в экономической и религиозной областях; 3) Переяславский договор категорически не может трактоваться как «добровольное воссоединение» Украины с Россией, как воссоединение двух братских народов, только об этом и мечтавших; 4) польско-украинский конфликт – трагедия двух народов, вероятно, наиболее близких друг другу в общекультурном плане, несмотря даже на различие в вероисповедании.
Вообще, для любой эмигрантской литературы (русской, украинской) характерен некий уклон в публицистику. Видимо, сказывается отрыв от национальной почвы и явно выраженная попытка возможно популярнее донести до читателя собственные политические взгляды и идеи.
Современная российская историография «Украинского вопроса». Постсоветский период в историографии Украины начала – середины XVII в. в РФ в значительной степени связан с деятельностью Института славяноведения РАН, который, начиная с 2003 г., приступил к выпуску ежегодника «Белоруссия и Украина: история и культура», а также с работой Центра украинистики и белорусистики МГУ, который стал проводить коллоквиумы по украинско-белорусской тематике, отчеты о которых и публикует вышеупомянутый сборник. Отличительной особенностью нынешнего периода развития отечественной украинистики является практическое отсутствие идеологического давления на деятелей науки со стороны государства, что благотворно сказалось на открытости дискуссий и широте охвата проблем истории Украины как в период ее нахождения в составе Речи Посполитой, так и в составе России.
Вопросам Брестской Унии и конфессиональных отношений на Украине XVI–XVII вв. посвящены статьи М. В. Дмитриева, например, статья «Православная культура Московской и Литовской Руси в XVI веке: степень общности и различий», помещенная в упомянутом выше сборнике за 2003 г.
В том же томе сборника помещена статья Б. Н. Флори «Спорные проблемы русско-украинских отношений в первой половине и середине XVII века», в которой автор обращает внимание на такой аспект самосознания великорусского народа, как необходимость восстановления древнерусского государства в его древних границах: «И это воспринималось как важнейшая национальная задача, а не имперская, – как освобождение других древнерусских земель от иноверной и инородной власти»[81 - Флоря Б. Н. Спорные проблемы русско-украинских отношений в первой половине и середине XVII века // Белоруссия и Украина: история и культура. – М., 2003. – С. 30.]. «…Эти политические действия московских правителей шли под лозунгом не объединения близких между собой в этническом отношении земель, а возвращения московским правителям, как потомкам Рюрика, их наследственного права на земли, которые не находятся под их властью»[82 - Там же. – С. 31.].
Далее автор останавливается на существовании «Проекта большой русской нации», объединявшем все группы восточнославянского населения, входившие когда-либо в состав Древнерусского государства, и проводит аналогию с проектом создания «большой французской нации», осуществлявшийся французскими королями на протяжении XII–XIII вв. (объединение существенно различных в культурном и экономическом планах регионов Севера и Юга Франции). Переходя в этом контексте к вопросу присоединения Украины к России, автор отмечает, что в части историографии политика Москвы по отношению к Украине «определяется как имперская, а политика Капетингов как таковая не определяется. Это, в сущности, происходит потому, что конечный результат оказался в обоих случаях разным. В результате объединения Севера и Юга Франции сложилась (пользуясь аналогичным термином) “большая французская нация”, а на территории Восточной Европы “большая русская нация” не сложилась»[83 - Там же. – С. 32.].
Далее автор касается темы историографии русско-украинских отношений и в этой связи отмечает, что «в историографии наблюдаются две крайности в освящении этой темы. С одной стороны, в традиционной русской дореволюционной, а потом советской историографии период первой половины XVII века – это время, когда русско-украинские связи развиваются, укрепляются, одновременно обостряются отношения с Речью Посполитой, и в это время подготавливаются предпосылки для Переяславской рады и т. д. Другое направление – это скорее отрицание какого-либо серьезного значения этих связей, что находит свое выражение в утверждении, что, вообще, Хмельницкий стал думать о каких-то соглашениях с Россией, только когда разочаровался в союзе с Крымом»[84 - Там же. – С. 32.]. Далее следует утверждение, что, действительно, на рубеже XVI–XVII вв. эти отношения стали существенно углубляться по двум направлениям:
1. После Брестской Унии «произошли перемены в отношениях между верхушкой украинского православного духовенства и Россией», но объясняется это только тем, что украинское православное духовенство в результате этой унии оказалось в крайне затруднительном положении.
2. Усиление ориентации на Россию в среде казачества (хотя там присутствовали сторонники поиска разных союзников). Происходило это в связи с тем, что казачество, а особенно его верхушка, постепенно утрачивали иллюзии, что они смогут добиться более почетного для себя положения в составе Речи Посполитой.
Как мы видим, автор не придает большого значения развитию торгово-экономических отношений между Россией и украинскими землями Речи Посполитой в первой половине XVII в., как это делали представители советской историографии, к примеру А. И. Баранович.
Завершает свою статью Б. Н. Флоря рассуждением о том, почему верхушка украинского общества тех лет остановила свой выбор именно на вхождении в состав Московского государства, хотя условия этого вхождения давали ей довольно куцые автономные права, но ввиду отсутствия на территории Украины владений русских помещиков казачество на этой территории «могло оставаться господствующей социальной группой в течение достаточно длительного периода»[85 - Там же. – С. 40.].
В сборнике «Белоруссия и Украина: история и культура» за 2004 г. помещена большая статья Б. Н. Флори «Переяславская рада 1654 года и ее место в истории Украины». В ней автор указывает, что в историографии сложились «…две полярные оценки характера связей между Россией и Гетманством после Переяславской рады. Согласно одной, произошла инкорпорация Гетманства в состав Русского государства, согласно другой – был заключен обычный военно-политический союз»[86 - Флоря Б. Н. Переяславская рада 1654 года и ее место в истории Украины // Белоруссия и Украина: история и культура 2004 г. – М., 2005. – С. 6.]. Б. Н. Флоря ставит под сомнение вторую точку зрения, справедливо замечая, что «заключение союза предполагает оформление союзных связей в виде двухстороннего договора с определением общих целей сторон и взаимных обязательств. Никакой подобный документ после рады в Переяславле в ходе русско-украинских контактов не был составлен»[87 - Там же. – С. 6.]. Далее автор пишет, что «тезис об инкорпорации является правильным с формальной точки зрения. <…> Однако не вызывает сомнений (и с этим согласна подавляющая часть исследователей), что Гетманство и после Переяславской рады продолжало существовать как особое политическое целое, и признание его формальной инкорпорации вовсе не дает решения вопроса о характере его отношений с Русским государством»[88 - Там же. – С. 7.]. Затем автор задает вопрос: можно ли рассматривать отношения между Московским государством и Гетманщиной как форму вассалитета? И отмечает: «О том, что отношения России и Гетманства основывались на акте присяги Богдана Хмельницкого царю, оформлявшим связь между ними, как сюзереном и вассалом, и содержавшим его обязательства в адрес сюзерена, нет никаких оснований говорить. Вопрос о составлении такого документа даже не обсуждался, а контакты между Русским государством и гетманством регулировались документами совсем иного типа»[89 - Там же. – С. 9.]. Рассматривая типы и формы документов, регулировавшие эти отношения, автор приходит к выводу: «Главный документ, определявший характер отношений между Россией и Гетманством – так называемые “Статьи Богдана Хмельницкого”, представлял собой запись украинских предложений с ответами царя на них (“которое его царского величества изволенье”). Таким образом, документ носил характер не договора или соглашения, а акта пожалования царя своим новым подданным. Такой же вид имела и серия жалованных грамот царя, появление которых стало итогом русско-украинских переговоров»[90 - Там же. – С. 10.]. Таким образом, по мнению Б. Н. Флори, прямым следствием событий 1653–1654 гг. явилось прямое вхождение Украины в состав Московского государства.
В. А. Артамонов в статье «Очаги военной силы украинского народа в конце XVI – начале XVIII вв.» обращает внимание читателей на следующий аспект формирования политической организации казачества, основой которого послужили порядки, сложившиеся в Запорожской Сечи: «В экстремальных условиях трудно создать высокоорганизованную государственную структуру. <…> Гипертрофия казацкой воли граничила с “охлократией”, и “образцовой модели государственного организма” здесь сложиться не могло»[91 - Артамонов В. А. Очаги военной силы украинского народа в конце XVI – начале XVIII веков // Белоруссия и Украина: история и культура 2003 г. – М., 2003. – С. 60.].
Автор ставит под сомнение известное мнение в историографии о том, что казацкая старшина вплоть до начала Освободительной войны пыталась добиться шляхетских привилегий в рамках государственности Речи Посполитой, порядки в которой в целом ее устраивали, не устраивало только собственное приниженное положение, и приводит следующую, на мой взгляд, однобокую и совершенно недостаточную аргументацию: «Тезис о том, что украинская верхушка считала Речь Посполитую меньшим злом, чем Россию, слабо обоснован. Военные действия Запорожского войска чаще всего развертывались на коронных украинских землях, в южной Белоруссии в Молдавии и Причерноморье, то есть на землях Речи Посполитой и Османской империи. Набеги на русскую Слобожанщину и область Войска Донского следует зачислить в разряд исключений»[92 - Там же. – С. 61.]. Во-первых, казаки исправно участвовали во всех походах войск Речи Посполитой в пределы Русского государства вплоть до 1619 г. и при этом вели себя на оккупированной территории подчас хуже татар. Отсутствие казацких набегов из Запорожья на территорию российского государства можно объяснить наличием достаточного количества военных сил, которое это государство имело на своих южных и юго-западных рубежах (наличие «Засечной черты» и т. д.). Во-вторых, после восстаний 1620–1630-х гг. казаки были настолько «умиротворены» польскими властями, что вообще крупных набегов совершать не могли.
Статья А. И. Папкова «Гетман Яков Острянин в Речи Посполитой и в России», опубликованная в сборнике «Белоруссия и Украина: история и культура» за 2004 г., дает подробное описание деятельности этого представителя казачества и предводителя одного их казацких восстаний (1638 г.). В статье затронута тема отношения запорожских казаков к российскому государству в 20–40-е гг. XVII в., их участия в боевых действиях войск Речи Посполитой против России, самостоятельно ими организованных набегов на российские владения. Материал дается через призму личности Якова Острянина. Особенно интересным представляется тот момент, что автор попытался показать разницу в социальной психологии населения русских порубежных с Речью Посполитой городов и запорожских черкас, являющихся, так сказать, продуктом политической и социальной культуры Польско-Литовского государства. Именно этим различием автор объясняет тот факт, что уже в 1641 г. казаки, перешедшие в Московию из Речи Посполитой с Яковом Острянином, после разгрома их наступления 1638 г. взбунтовались против российских властей и ушли обратно на территорию польского государства. «По представлениям русских властей, они хорошо устроили переселенцев, но те были недовольны своим положением. Правда, они были наделены землей и жалованьем, но за это добивались постоянного несения службы»[93 - Папков А. И. Гетман Яков Острянин в Речи Посполитой и в России // Белоруссия и Украина: история и культура 2004 г. – М., 2005. – С 116.]. Запорожцам в реалиях централизованного русского государства не хватало той самой пресловутой польской «вольности», или, если угодно, анархии, к которой они так привыкли, что и вызвало их бунт и бегство «на историческую родину», тем более, что польские власти объявили им амнистию.
В брошюре А. А. Булычева «История одной политической кампании XVII века» подробно рассматриваются причины специфического факта отечественной истории, а именно – кампании по изъятию и даже уничтожению сначала только некоторых из книг, отпечатанных в братских типографиях на территории Малороссии, входившей тогда в состав Речи Посполитой (сочинений Кирилла Ставровецкого), а затем и всех вообще книг, отпечатанных в типографиях на территории этого государства на церковнославянском языке. Причем кампания эта коснулась только западных регионов Московского государства и происходила на протяжении 1626–1630 гг. Причем закончилась она так же неожиданно, как и началась.
А. А. Булычев, будучи ведущим специалистом Российского государственного архива древних актов, проводит расследование этой странной истории на основании изучения весьма большого количества источников: актового материала, воеводских отписок и пр. Исследование это интересно для нас в том отношении, что показывает всю сложность отношений между двумя государствами: Речью Посполитой и Россией, выявляет, что в это противостояние были втянуты, помимо собственно политических структур этих государств, еще и церковные иерархи различных христианских конфессий, даже книгоиздатели и книготорговцы. В результате своего исследования автор приходит к следующим выводам: «Думается, непосредственной причиной такой агрессивной “антилитовской” кампании, изначальной целью которой было энергичное воздействие на духовную жизнь русского общества, явились неоднократные попытки учредить на землях Украины и Белоруссии, автономный униатско-православный патриархат, по образцу государственного устройства Речи Посполитой. <…> Формально инициатива создания в Литве особого, совместного, патриаршества для униатов и православных принадлежала сенаторам Речи Посполитой»[94 - Булычев А. А. История одной политической компании XVII века. – М., 2004. – С. 56.].
Реакция московских властей была чрезвычайно резкой. «Естественно, что их не могла не раздражать перспектива превращения одной из периферийных епархий Константинопольского патриархата в самостоятельную Церковь с кафедрой почти равночестной по статусу московской. <…> Помимо неизбежного умаления достоинства патриаршей кафедры «царствующего града» Москвы, изменение статуса Киевской митрополии привело бы к полному провалу планов русского правительства присоединить в будущем к своей обширной державе территории левобережной Украины и Белоруссии (за исключением западных областей последней). Между тем уже в начале 1630 годов фактический руководитель отечественной дипломатии, патриарх Филарет, рассматривал аннексию этих регионов Речи Посполитой в качестве едва ли не основной геополитической сверхзадачи подготавливаемой военной компании против Польско-Литовского государства»[95 - Там же. – С. 63–64.].
Еще одним существенным раздражителем для Москвы была персона патриарха Игнатия Грека. «С осторожностью можно предположить, что более всего Филарет Никитич опасался возведения на этот престол (патриарха Речи Посполитой – Б. Д.) его недавнего предшественника на московской кафедре – патриарха Игнатия Грека, бежавшего в Смуту в Литву. В Речи Посполитой Игнатий, как ныне хорошо известно, жил на покое в униатском Троицком монастыре в Вильно»[96 - Там же. – С. 70.]. Таким образом, бывший патриарх в глазах московских властей был грозным политическим призраком, которого польские Вазы, когда отправлялись восстанавливать права на русский трон королевича Владислава, всегда везли в своем обозе.
Читая эту брошюру, лишний раз убеждаешься, в какие сложные международные и межконфессиональные отношения было втянуто население Малороссии в первой половине XVII в.
Несомненный интерес для историков представляет книга «Украинцы», выпущенная в серии «Народы и культуры» издательством «Наука» в 2000 г. Книга эта составлена в «Институте этнологии и антропологии РАН» и является фундаментальным трудом не только по украинской этнографии, но содержит и обширные исторические очерки. Особый интерес для историков представляют следующие главы: «Историко-этнографическое районирование», «Украинский язык и говоры», «Обычное право и правовые представления», «Общественный быт» (разделы «Крестьянская община», «Традиции коллективной трудовой взаимопомощи»), «Цехи на Украине».
Таким образом, современная российская историография пытается в новых ракурсах рассматривать проблемы становления и развития зачатков национальной государственности на Украине, систему взаимоотношений верхушки украинского общества с государственной властью Речи Посполитой и Московским государством, систему представлений Московского правительства и общества на то, каким должно быть вновь собранное Русское государство, вопросы церковной политики России в отношении Украины и другие вопросы.
Польская историография «Украинского вопроса». Польская историография по теме Украины XVI–XVII вв. мной может быть рассмотрена крайне скупо ввиду почти полного отсутствия переводов работ польских историков. Остановимся на статье В. Серчика «Речь Посполитая и казачество в первой четверти XVII века» из сборника «Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII веках».
Особое внимание автор уделяет генезису казачества как самостоятельной сословной группе феодального общества, отмечая пестроту того контингента (особенно по национальному признаку), из которого она формировалась, останавливаясь на двух аспектах, проявившихся в самом начале при формировании казачества: 1) создание политической структуры общества; 2) очень быстрое имущественное расслоение этого общества. В развитие этих тезисов В. Серчик пишет: «Так сложилась своеобразная форма военной организации, постепенно превращавшейся в обычный феодальный организм, в котором отдельные ступени политической иерархии, отдельные институты власти оказывались в руках лиц, отличавшихся не столько своими способностями, сколько имущественным положением. И если в процессе развития наметившихся тенденций какая-то часть казацкой старшины все чаще предъявляла готовность сотрудничать с феодальной Польшей, то «низы» казачества обычно оказывались в оппозиции к Речи Посполитой»[97 - Серчик В. Речь Посполитая и казачество в первой четверти XVII века // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII веках. – М., 1979. – С. 175.]. Далее автор замечает, что «процесс формирования Запорожского казачества оказался тесно связанным как с обострением внутриполитической борьбы в Речи Посполитой (часто на национальной, а потом все больше на религиозной почве), так и с усилением активности феодальной Польши на международной арене»[98 - Там же. – С. 176.].
В. Серчик постулирует две теоретические возможности установления взаимоотношений между казачеством и властями Речи Посполитой: 1) соглашение на союзнических принципах между обоими равнозначными партнерами; 2) подавление всяческих попыток казачества освободиться, установление польской администрации на землях, населенных казаками, принятие их под юрисдикцию феодальной Польши. Власти Речи Посполитой в реальности пытались реализовать лишь вторую возможность, в первую очередь, из-за позиции шляхты.