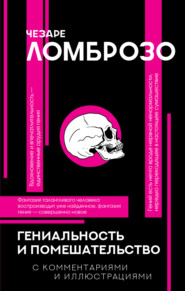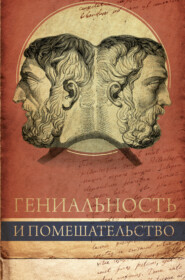По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Политическая преступность и революция
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Актуальная для Лебона и Ломброзо проблема социализма связывалась этими исследователями с подобным типом поведения человеческой массы. Однако упомянутые авторы расходились в своих оценках (и психологических, и юридических) движущих мотивов этого социального движения. С юридической точки зрения объективные обстоятельства антигосударственной, антибуржуазной деятельности социалистов никак не сочетаются с мотивами, субъективной стороной этой деятельности. Критикуя Ломброзо, Г. Лебон замечал: «Современные психиатры полагают вообще, что фанатики социализма, составляющие авангард, принадлежат к особому типу преступников, которых они называют прирожденными преступниками. Но такое определение уж очень поверхностно… и неоправданно широко охватывает различные группы и классы людей»[6 - Там же. С. 129.]. Примкнувшие к социалистам преступники только выдают себя за политических деятелей, чтобы скрыть за этим свою преступную сущность. Истинные же проповедники социализма, хотя и совершают деяния, с юридической точки зрения признанные преступными, с психологической точки зрения не могут рассматриваться как преступные элементы: эти деяния совершаются ими не только без всякого личного интереса (составляющего существенный признак преступления), но часто вразрез с их интересами. Эти энтузиасты поглощены религиозным чувством, мешающим им разумно и адекватно оценивать жизненную ситуацию.
Одновременно с полемикой Лебон цитирует Ломброзо, точно подметившего, что душевнобольные с альтруистическими наклонностями в новейшее время устремились из сферы религиозности в сферу деятельности «политических партий и антимонархических заговоров своей эпохи». При этом, чем «страшнее и безрассуднее идея, тем большее число душевнобольных и истеричных людей она увлекает, особенно из среды политических партий, где каждый частный успех обращается в публичную неудачу или торжество, и эта идея поддерживает фанатиков в течение всей их жизни и служит им компенсацией за жизнь, которую они теряют, или за переносимые ими муки»[7 - Там же. С. 130–131.]. Альтруизм толпы объясняется прежде всего отсутствием в ней эгоизма, наличие которого возможно лишь при условии способностей к рассуждению и размышлению, свойственных индивиду, но полностью отсутствующих в толпе и массе. Альтруизм характерен для толпы в той же мере, в какой и ее неожиданные переходы от неистовости и жестокости, к слепой покорности и добродушию.
Толпа, состоящая из случайной смеси людей, руководствуется отчасти увлечениями, отчасти по-своему понятой справедливостью, любовью к скандалам; готовая к жестокости и милосердию, к истреблению и обожанию, она жаждет чего-то необычного. Настроение толпы зависит от случая, иногда для совершения политического преступления достаточно простого скопления большого количества людей. Ломброзо вторит Лебону и другим исследователям массовой психологии: «Слова ораторов действуют тогда на верующую, раздражительную, невежественную, героически настроенную толпу, подобно внушению свыше. Происходит нечто подобное нравственному опьянению, возбуждаемому, помимо занимательных речей, криками, толкотней, взаимной поддержкой. Все это заглушает индивидуальную совесть и заставляет толпу совершать такие деяния, о которых отдельное лицо никогда бы не подумало» (С. 171). Микробы зла легко распространяются в этой среде, микробы добра быстро гибнут, не находя условий для роста. Воображение отдельного индивида усиленно работает, каждый становится более доступным для внушения. Интенсивность эмоции растет пропорционально росту численности толпы. Малейший факт приобретает гигантские размеры в сознании толпы и может сподвигнуть ее к самым неожиданным действиям.
Толпа живет чувствами и верованиями. Мимолетность чувств очевидна, но еще большая опасность для современного массового общества заключена в отсутствии у массы неких общих верований, утерянных ею в ходе исторического процесса. Внешние обстоятельства постоянно меняют мнения массы, которая, будучи не в состоянии отказаться от старых верований, все время ищет новых. Так и социализм, по мнению Лебона, «может образовать собой одно из таких мимолетных вероучений, возникающих и исчезающих на протяжении одного и того же века, которые служат только для подготовки или для возобновления других верований, более подходящих и к природе человека, и к разным потребностям, которым должны подчиняться общества»[8 - Там же. С. 117.]. (Здесь Лебон уже близок к идее «социалистического мифа», чуть позже развитого Ж. Сорелем).
4. Власть массы
«Эрой масс» назвал Гюстав Лебон наступающий XX век. Массы диктуют правительствам поведение, и эти последние стараются прислушиваться к их требованиям: «Не в совещаниях государей, а в душе толпы подготавливаются теперь судьбы наций, а божественное право масс заменяет собой божественное право королей»[9 - Лебон Г. Психология толпы // Психология толпы. М., 1998. С. 126–127.].
К XIX в. сформировалась особая форма власти, контролирующая сам процесс жизни, эта форма концентрировалась вокруг «тела – рода», вокруг тела, которое пронизано механикой живого, служит опорой для биологических процессов жизни и составляет целый набор способов контроля: «прежнее могущество смерти, в котором символизировалась власть суверена, теперь тщательно скрыто управлением телами и расчетливым заведованием жизнью»[10 - Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. С. 243–244.]. Биополитика власти по отношению к целому социальному организму постоянно исходит из представления о механической природе человеческого существа и его унифицированности, масса в этой перспективе представляется более органической и живой, чем ее отдельный член. Масса и толпа теперь первичны, индивид вторичен и производен. Власть, растворенная в массе, формирует его как члена массы: он должен быть такой же, как все, согласовывать свои действия с работой общего и единого социального механизма, его тело и душа превращаются в элементы огромной мегамашины (да и сам он теперь становится полновесным «человеком-машиной», о чем давно мечтал Ламетри). Теперь все характеристики, в том числе и политические, должны относиться не к индивиду, а к массе.
Внешне вполне демократические массы (а иной установки в психологии толпы быть и не может – здесь «все равны», все отвечают за одного, один – за всех и т. п.) своим поведением постоянно демонстрируют (новый парадокс!) склонность к деспотизму, характерному для любой массовой идеологии и массовой политической системы. Тайная связь между провозглашаемым равенством и деспотизмом установилась давно, еще Шатобриан подчеркнул эту тенденцию применительно к ситуации Французской революции: «Повседневный опыт заставляет признать, что французы бесспорно устремляются к власти, они нисколько не дорожат свободой, их идеал – равенство. Между тем равенство и деспотизм соединены тайными узами»[11 - Цит. по: Психология толпы. С. 71.]. Равенство выдвигается в качестве лозунга, посредством которого стремятся обеспечить стабильность общества масс, ведь массой становятся, именно предполагая равенство (Э. Канетти).
Либеральная и демократическая политика традиционно делает ставку на разум и рациональность, однако массы движимы, прежде всего, своими собственными страстями и заблуждениями («предрассудками», сказал бы Э. Берк, считавший только данный тип сознания способным справиться с неожиданно возникающими жизненными проблемами).
Полагаясь на интеллект, чтобы убеждать, и на расчет, чтобы преодолевать трудности, либералы не учитывают иррационального характера массовой, коллективной психологии: можно предъявлять претензии к интеллекту отдельных людей, но не масс, стихийная сила которых смущает аналитиков. Отсутствие у таких политиков воли к власти и инстинкта, с помощью которого только и можно понять массу, подготавливает новый парадокс, когда призыв к свободе порождает диктатуру, а демократия открывает путь тирану. В сфере политики только иррациональное имеет отношение к поведению массы, «разум – это приговор политике, а политика – могила разума». Там, где начинаются массы, кончается рациональное, и поскольку объектом политики могут быть только массы, то рациональность для политика – лишь помеха.
Иррациональное – характерный признак массы, это – новое явление для политических систем, построенных на рациональности, демократизме и либерализме. В «цивилизованном» обществе массы возрождают иррациональность: вытесненная из экономической сферы наукой и техникой, она сосредоточивается в сфере власти, становясь ее стержнем[12 - Московичи С. Век толпы. Исторический трактат по психологии масс. С. 59, 61.]. Если отношения людей к вещам могут быть построены и проанализированы на началах рациональности, то отношения между людьми всегда сопровождаются значительной долей иррационального, и на этом допущении строятся как психология масс, так и политика массового, т. е. современного, общества.
Кроме того, власть имеет здесь не только иррациональный, но и скрытый, латентный характер. С. Московичи называет «западным деспотизмом» тип властвования, основанный не столько на монополии производства, сколько на монополии на средства коммуникаций. Захват орудий влияния или внушения обеспечивает политическому режиму невидимую власть над доверчивыми, импульсивными и внушаемыми по своей природе массами. «Видимое господство подменяется духовным, незримым господством, от которого невозможно защититься»[13 - Там же. С. 75.]. Сами же массы оказываются царящими, но не правящими, с неотвратимой неизбежностью в их среде развивается тяга к деспотизму, и ее результатом становится рождение тирана.
М. Фуко заметил, что в новейшее время сам тип властвования претерпевает существенные изменения: право захвата перестает быть «преимущественной формой, но оказывается лишь одним из элементов наряду с другими, обладающими функциями побуждения, усиления, контроля, надзора, умножения и организации сил, которые власть себе подчиняет – власть, предназначенная скорее для того, чтобы силы производить, заставлять их расти и их упорядочивать, нежели для того, чтобы ставить им заслон, заставлять их покориться или их разрушить»[14 - Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. С. 240.]. Все это и является фрагментами более широкого понятия «влияние», заменяющего брутальное представление о власти – насилии.
Массовые лидеры давно поняли, что в толпе намного эффективнее обращаться не к интеллекту, не к понятливости массового человека, а к чувствам любви, ненависти, мстительности, виновности, которые остро ощущает толпа. Вместо того, чтобы будить ее разум, следует будить ее память. Коллективной памятью массы является миф. Эрнст Кассирер писал: «Проблемы, не замеченные политическими мыслителями XVIII и XIX веков, неожиданно вышли на первый план. Самой важной и вызывающей беспокойство чертой эволюции современного политического мышления становится, быть может, появление новой власти: мифического мышления»[15 - Цит. по: Московичи С. Век толпы. Исторический трактат по психологии масс. С. 57.]. Масса формируется под воздействием общих верований и страстей, она объединяется в некое состояние высшей убежденности в истинности своих заблуждений. Персонификацией страсти и идей массы становится некая персона, лидер, наиболее адекватно выражающий ее собственные представления. Обезличенная масса объединяется вокруг идеи, чаще всего принимающей форму некоей «догматической религии», максимально адаптированной для всеобщего восприятия. Характерно, что на всем протяжении истории в одних и тех же условиях власть проявляется и действует одними и теми же методами: в том, что касается власти, «прошлое господствует над настоящим, мертвая традиция опутывает живую современность»[16 - Там же. С. 163.]. Поэтому и массовая политика построена на древних и скрытых от сознания архетипах, поэтому прогресс, столь свойственный и заметный в технике и экономике, полностью отсутствует в политике, т. е. в сфере властвования.
Верования толпы всегда имеют религиозную форму с соответствующими признаками: слепым подчинением, нетерпимостью, потребностью в религиозной пропаганде и т. п. Верования, идеи управляют массами при посредстве вождей, «идеи управляют массами, но масса с идеями неуправляема. Чтобы решить эту насущную задачу, произвести эту алхимию, необходима определенная категория людей. Они преобразуют взгляды, основанные на чьих-то рациональных соображениях, в действие всеобщей страсти. С их помощью идея становится материальной»[17 - Там же. С. 175–176.].
Лидер осуществляет власть над толпой, используя не насилие, а ее верования. Вождь убежден в истинности идеи, с которой он неразрывен, зато он полностью утрачивает контакты с реальным миром и своими близкими. Любое его действие направлено на достижение любой ценой победы, не его личной, но победы его идеи, доктрины, религии, веры. Удаленность лидеров от мира и друзей, от взаимности подчеркивает атмосферу тайны, питающей иллюзии относительно их самих, которые рождаются в массе. «Завеса тайны, скрывающая их, всегда украшена какими-то представлениями, как театральный занавес масками и драматическими сценами… Тайна, которой они облекают свои действия и решения, выводит их за рамки обычного… Вера толпы вынашивает эту тайну, приукрашивает образ, который она хочет себе создать». Обе стороны своими действиями усугубляют ситуацию, в которой авторитет оказывается не более чем «разделенной иллюзией».
Важнейшим архетипом власти является модификация отцовской власти: лидер и вождь – всегда «отцы нации». Поэтому массы стихийно стремятся вовсе не к демократии, как предполагают либеральные интеллектуалы, а к деспотизму, сильной власти, подчинению. (В системе «демократического деспотизма» отцовские черты скрыты под личиной «брата», символа народного равенства. Братская ипостась лидера позволяет ему быть одновременно повелителем, деспотом, господином своих подданных и их же защитником от деспотизма могущественного государства, которое он же сам и олицетворяет).
Тиран не приходит сам, его жаждут и призывают массы. Они желают так же искренне заблуждаться на счет его истинных качеств и целей, как дети убеждены во всесилии и всезнании отца. Они готовы раскаиваться и даже требуют себе наказаний от него. И вместе с тем они пристально наблюдают за ним, ревниво и ворчливо оценивая его действия по отношению к «Родине-матери», нации, всегда готовые к взрыву иррационального и спонтанного гнева. Но сила и авторитет держат их в повиновении.
Поскольку толпа, масса существует «автоматически», будучи нечувствительной к противоречиям и нуждающейся в повторяемости направленных к ней обращений, она особенно чувствительна к простым ответам на свои вопросы, реагирует на то, что поражает ее память: именно те положения, «смысл которых менее всего определен, порой обладают наибольшей действенностью. Таковы, например, термины: “демократия”, “социализм”, “равенство”, “братство” и т. п., чей смысл остается таким туманным, что пухлых томов недостаточно, чтобы его прояснить. И все же действительно магическая сила связана с произнесением слогов, как если бы они содержали решение всех проблем. Они соединяют в себе неосознанные и многообразные чаяния и надежду на их осуществление»[18 - Лебон К. Психология толпы. С. 183.].
Слова и лозунги подстрекают массы к восстанию. Является ли этот акт выступлением детей против отцовской власти? Это – проблема фрейдизма. Сама революция – явление значительно более сложное, это осознавал и Ломброзо, не ограничивавшийся в ее описании только психобиологическими факторами.
Обыденное мышление связывает воедино движение массы и революцию; Лебон настаивает на другом – он утверждает, что массы по своей природе консервативны. Даже когда массы уже поднимаются на баррикады и размахивают красными знаменами, не следует особенно верить их революционным призывам: в действительности они лишь страстно желают вернуться к архаическим основам. И властители должны использовать эту тягу, чтобы вернуть массы к их прошлому (например, мифу нации), от которого они ненадолго освободились. «С помощью ностальгии сердца, прошлой славы, заботы масс о почитании памяти мертвых предотвращается или завершается революция»[19 - Московичи С. Век толпы. Исторический трактат по психологии масс. С. 153–154.].
Массы вполне удовлетворяются демонстрируемым властями фокусом, когда старым учреждениям присваиваются новые названия, слово и знак для толпы имеют значительно большее значение, чем логичное и конструктивное преобразование социальных или политических структур. Так, вера в парламентаризм представляет собой «условную ложь», превратившуюся у большинства воспринимающих ее людей в простую привычку. Столь же условной является вера в равноправие и свободу – просто привилегии прежних сословий незаметно перешли на новое (Ч. Ломброзо называет его представителей «политиканствующими адвокатами»).
«Общественный прогресс», прежде всего его нравственная составляющая, осуществляется весьма медленными темпами, а человеческое общество по своим инстинктам консервативно. Любое подталкивание этого процесса будет вредным и антизаконным. По мнению Ломброзо, это уже не революция (совпадающая у него с эволюцией, осуществляющейся с наименьшим трением и наибольшим результатом), а патологический бунт.
Итак, круг замкнулся: революции привели к власти массы, а установившаяся власть массы кладет конец революционной эпохе. «Пожрав своих детей», революция восстановила новую тиранию и деспотизм. И в этом виноваты сами массы, неспособные предвидеть и рассуждать, ставшие частью природы, неким социальным организмом, больше похожим на машину. Ломброзо убежден в косности и инертности массы и толпы, непредсказуемости ее поведения в мире. Вместе с другими мыслителями, открывшими для себя эту проблему, он тревожно вглядывается во встающий перед ним пугающий феномен: не разрушит ли эта «преступная толпа» ту традиционную систему ценностей и вещей, которая сложилась в Европе и мире, куда она направит свое течение, кто станет ее врагом, какие новые бездны откроются перед ней в грядущем веке? Если врожденные пороки человека смогли вылиться в череду социальных и политических катаклизмов – революций, не будут ли они направлены и против самой среды человеческого обитания?
В предлагаемой читателю работе великого итальянского провидца все эти вопросы остаются без ответа. Тогда еще время ответов не наступило. Прошло сто лет после выхода книги, и нам теперь уже приходится самим отвечать на поставленные Чезаре Ломброзо вопросы.
И. А. Исаев, доктор юридических наук, профессор
Предисловие
Этот ряд преступлений важнее всех других, по крайней мере, для наших современных обществ; он отзывается не только на частных лицах, но и на общем благе и на интернациональном положении страны, и на отношении граждан друг к другу, и на общественной нравственности. Поэтому политические преступления должны быть изучаемы как случаи социальной патологии.
Литтре
Нет, пожалуй, ни одного юридического вопроса, который открывал бы такое широкое поле для составления самых противоречивых теорий, как вопрос о политических преступлениях. Достаточно вспомнить, что многие известные пеналисты, как, например, Lucas, Froebel, Halsher и Carrara доходят до сомнения в существовании последних, как будто бы они не были ярким общественным явлением, повторяющимся во все времена и при всякой форме правления.
Правда, что политические преступления никогда не были изучаемы как таковые: деспотизм, откуда бы он ни шел – от дворца или от улицы – всегда успевал отклонить от них научную критику, присваивая себе их монополию или превращая в оружие против своих противников.
Тому же немало содействовали и те доктринеры свободы, которые, гоняясь более за видимостью, чем за сутью, более за фразами, чем за делом, восставали всякий раз, когда кто-нибудь пробовал прилагать критерии преступлений против общего права к деяниям, несколько отклоняющимся от такого типа, по крайней мере, во всем, что касается намерения.
А между тем мы видим, что с древнейших времен и до наших дней самые свободные нации страшно строго преследуют преступления такого рода: в Афинах, например, всякого, кто только был подозреваем в желании свергнуть народное правление, считали достойным смерти; в Спарте отдавали на жертву адским богам того, кто в народных собраниях говорил или вотировал против республики.
Республиканский Рим рубил головы врагам отечества и народа римского (perduelis). В Средние века итальянские свободные коммуны, например, Венеция и Флоренция, налагали самые суровые наказания лиц, только подозреваемых в политических замыслах: а в наше время, даже в таких демократических государствах как Северо-Американские Штаты, за нарушение конституции и за политический заговор, проявившийся в деяниях, назначается смертная казнь[20 - Status of New-York. Гл. 1.].
Во всяком случае, следует признать, что если законы даже самых свободных народов не соответствуют в этом отношении историческому и научному прогрессу, то они не согласуются и с современным общественным мнением, по крайней мере, наиболее образованных классов. Последнее, в самом деле, более не оправдывает чересчур строгих мер против политических преступлений, как это проявляется в преувеличенной мягкости приговоров присяжных и в снисходительности избирателей, игнорирующих постановления суда.
Хотя первая идея научного исследования, предлагаемого теперь читателям, явилась у нас на Туринской выставке 1884 г. при обозрении портретов итальянских политических мучеников, а разрабатывалась она людьми, которых трудно подозревать в ретроградных стремлениях, мы не были удивлены кампанией, начатой против нас даже самыми доблестными из наших товарищей по оружию[21 - См.: Actes du congres d’anthropologie criminelle. Rome, 1887.]. Мы так хорошо понимаем гуманные мотивы, которыми они руководствуются, что и сами разделили бы их чувства, если бы холодный рассудок и научная объективность не одержали победы над первым порывом, заставившим нас симпатизировать более предполагаемым преступникам, чем их судьям.
Если можно сравнивать малое с великим, то мы, пожалуй, и сами принадлежим к числу таких преступников, потому что искать причины преступности, значит, вносить такие изменения в старые правовые понятия, которые сами по себе могли бы, в иное время и в иных странах, считаться преступными; да и были бы таковыми в юридическом смысле слова, если бы мы захотели слишком самоуверенно и при помощи средств посторонних наук ввести их в практику.
Кроме того, мы теперь же соглашаемся, что слово преступник в приложении к совершителям политических проступков должно казаться неподходящим, в особенности, если их смешивать с преступниками врожденными. Эти последние входят, правда, в контингент лиц, совершающих политические преступления, но в очень ограниченном количестве и с такими особенностями, что их тотчас же можно отличить от массы весьма почтенных деятелей, к числу которых они примешиваются.
Но мы должны все-таки держаться технического названия, хотя и признаем, что политический преступник является таковым только с юридической точки зрения, а отнюдь не с нравственной или социальной.
Правда, что с каждым днем данный вопрос становится все менее и менее важным. Если мнение Спенсера насчет того, что «преступление против общего права должно исчезнуть со временем», есть результат иллюзии, то не в приложении к преступлению политическому. Это уже начинает проявляться в мягкости, если не буквы современных законов, то их духа, и уж, во всяком случае, в общем чувстве, в общем мнении, поддерживающем законы и реформы при согласии с ними или отрицающим их, при несогласии. Очевидное доказательство этому мы имеем в постоянном уменьшении числа поступков, считающихся политическими преступлениями в просвещенных странах Европы.
Дело в том, что, с одной стороны, теперь начинают понимать, что между революцией и бунтом (rebellion) существует такая же громадная разница, как между эволюцией и катаклизмом, натуральным ростом и болезненной опухолью; что между ними больше антагонизма, чем аналогии, что революции и восстания представляют почти полную противоположность друг другу. Последние, будучи бесплодными даже тогда, когда руководятся намерениями, не имеющими в себе ничего преступного, должны быть, следовательно, поставлены в разряд преступлений, которые хотя и совершаются вследствие честных побуждений, но не могут избежать преследований закона.
С другой стороны, целый ряд причин, делавших в прошлом политические преступления почти постоянными – таких, например, как угнетение национальностей и религиозная нетерпимость – постепенно уничтожается, или, по крайней мере, сокращается, а потому сокращается и реакция, которую они вызывали.
Нельзя, однако же, сказать, чтобы эти причины совершенно исчезли, отчасти потому, что рядом с нами – счастливыми в этом отношении – стонут народы, которым отказано в свободе мысли и праве политического самоопределения, а отчасти потому, что даже и у нас человеческая природа является неудовлетворимой – насыщение не всегда ее успокаивает, а иногда развивает новые, беспорядочные аппетиты, по крайней мере, у той группы людей, которую невроз или житейские разочарования сделали неспособными к спокойствию.
Правда, что многие из последних, делаясь виновными в настоящих преступлениях, бессознательно совершают доброе дело, потому что указывают нам на неудовлетворенные нужды или ускоряют события, которые иначе совершились бы гораздо позднее. Чаще, однако, они просто живут в болезненном бреду среди противоречивых проектов, подобно мыльным пузырям блещущим всеми цветами радуги, но лопающимся от малейшего прикосновения.
В самом деле, вслед за республиканцем и социалистом, имеющими историческое или экономическое право на существование, появляются коммунист и анархист, совершенно отвергающие государство, отрицающие даже обязанности гражданина и стремящиеся одним ударом разрушить все связи, делающие современного человека сравнительно счастливым.
Но ведь никто же не пойдет за ними так далеко.
Нам следует, стало быть, заняться изысканием, существует ли, помимо злоупотреблений деспотизма, политическое преступление, приносящее обществу вред и, следовательно, влекущее за собой ответственность перед законом. А если такое преступление существует, то в чем оно состоит по отношению к политическому организму и правам граждан, входящих в состав последнего.
Если бы мы при этом изыскании стали следовать по протоптанным тропинкам древних понятий о праве, то должны бы были начать с априористического определения, опирающегося на какие-нибудь древние цитаты, а затем, исходя от него, подобно пауку, ткущему свои нити, и с такой же прочностью продолжать ткать основы нашей работы. Но так как для нас преступник важнее преступления, то мы дадим определение последнего – составляющего для нас, во всяком случае, дело второстепенное, только после основанного на криминальной антропологии и истории изложения факторов этого нового вида преступности.
Что касается приложения наших теорий к жизни, то есть политических и социальных реформ, то мы не скроем, что многие поверхностные критики сочтут нашу попытку бесполезной потому только, что мы допускаем врожденность преступности. Но рассуждать таким образом значило бы, по прекрасному сравнению Signele[22 - Archivio Giuridico. Флоренция, 1891.], то же самое, что отвергать всякую возможность улучшения земледелия, поэтому только, что мы не можем застраховать себя от молнии и града. В природе существуют случайности и менее неустранимые, чем град и молния, а с ними, к счастью, человек может бороться. Точно так же и в общественной среде есть враги более многочисленные и менее закоренелые, чем прирожденные преступники, а потому в борьбе с этими врагами постоянная и просвещенная предусмотрительность может много чего сделать. Да и, кроме того, в среде народа покойного и довольного своими учреждениями, всякая политическая попытка прирожденных преступников останется безрезультатной.
Пробуя разрешить некоторые из великих исторических социальных задач, занимающих внимание ученых и мыслителей, мы старались быть объективными. Мы заставили молчать в себе всякие предвзятые чувства, одинаково не подчиняясь как симпатиям, так и антипатиям. Будем надеяться, что и читатель поступит так же, что перед решением вопросов такой громадной важности он сбросит с себя предрассудки, присущие его партии, его народности и даже его веку. Перед лицом исторической эволюции один век – лишь секунда.
Одновременно с полемикой Лебон цитирует Ломброзо, точно подметившего, что душевнобольные с альтруистическими наклонностями в новейшее время устремились из сферы религиозности в сферу деятельности «политических партий и антимонархических заговоров своей эпохи». При этом, чем «страшнее и безрассуднее идея, тем большее число душевнобольных и истеричных людей она увлекает, особенно из среды политических партий, где каждый частный успех обращается в публичную неудачу или торжество, и эта идея поддерживает фанатиков в течение всей их жизни и служит им компенсацией за жизнь, которую они теряют, или за переносимые ими муки»[7 - Там же. С. 130–131.]. Альтруизм толпы объясняется прежде всего отсутствием в ней эгоизма, наличие которого возможно лишь при условии способностей к рассуждению и размышлению, свойственных индивиду, но полностью отсутствующих в толпе и массе. Альтруизм характерен для толпы в той же мере, в какой и ее неожиданные переходы от неистовости и жестокости, к слепой покорности и добродушию.
Толпа, состоящая из случайной смеси людей, руководствуется отчасти увлечениями, отчасти по-своему понятой справедливостью, любовью к скандалам; готовая к жестокости и милосердию, к истреблению и обожанию, она жаждет чего-то необычного. Настроение толпы зависит от случая, иногда для совершения политического преступления достаточно простого скопления большого количества людей. Ломброзо вторит Лебону и другим исследователям массовой психологии: «Слова ораторов действуют тогда на верующую, раздражительную, невежественную, героически настроенную толпу, подобно внушению свыше. Происходит нечто подобное нравственному опьянению, возбуждаемому, помимо занимательных речей, криками, толкотней, взаимной поддержкой. Все это заглушает индивидуальную совесть и заставляет толпу совершать такие деяния, о которых отдельное лицо никогда бы не подумало» (С. 171). Микробы зла легко распространяются в этой среде, микробы добра быстро гибнут, не находя условий для роста. Воображение отдельного индивида усиленно работает, каждый становится более доступным для внушения. Интенсивность эмоции растет пропорционально росту численности толпы. Малейший факт приобретает гигантские размеры в сознании толпы и может сподвигнуть ее к самым неожиданным действиям.
Толпа живет чувствами и верованиями. Мимолетность чувств очевидна, но еще большая опасность для современного массового общества заключена в отсутствии у массы неких общих верований, утерянных ею в ходе исторического процесса. Внешние обстоятельства постоянно меняют мнения массы, которая, будучи не в состоянии отказаться от старых верований, все время ищет новых. Так и социализм, по мнению Лебона, «может образовать собой одно из таких мимолетных вероучений, возникающих и исчезающих на протяжении одного и того же века, которые служат только для подготовки или для возобновления других верований, более подходящих и к природе человека, и к разным потребностям, которым должны подчиняться общества»[8 - Там же. С. 117.]. (Здесь Лебон уже близок к идее «социалистического мифа», чуть позже развитого Ж. Сорелем).
4. Власть массы
«Эрой масс» назвал Гюстав Лебон наступающий XX век. Массы диктуют правительствам поведение, и эти последние стараются прислушиваться к их требованиям: «Не в совещаниях государей, а в душе толпы подготавливаются теперь судьбы наций, а божественное право масс заменяет собой божественное право королей»[9 - Лебон Г. Психология толпы // Психология толпы. М., 1998. С. 126–127.].
К XIX в. сформировалась особая форма власти, контролирующая сам процесс жизни, эта форма концентрировалась вокруг «тела – рода», вокруг тела, которое пронизано механикой живого, служит опорой для биологических процессов жизни и составляет целый набор способов контроля: «прежнее могущество смерти, в котором символизировалась власть суверена, теперь тщательно скрыто управлением телами и расчетливым заведованием жизнью»[10 - Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. С. 243–244.]. Биополитика власти по отношению к целому социальному организму постоянно исходит из представления о механической природе человеческого существа и его унифицированности, масса в этой перспективе представляется более органической и живой, чем ее отдельный член. Масса и толпа теперь первичны, индивид вторичен и производен. Власть, растворенная в массе, формирует его как члена массы: он должен быть такой же, как все, согласовывать свои действия с работой общего и единого социального механизма, его тело и душа превращаются в элементы огромной мегамашины (да и сам он теперь становится полновесным «человеком-машиной», о чем давно мечтал Ламетри). Теперь все характеристики, в том числе и политические, должны относиться не к индивиду, а к массе.
Внешне вполне демократические массы (а иной установки в психологии толпы быть и не может – здесь «все равны», все отвечают за одного, один – за всех и т. п.) своим поведением постоянно демонстрируют (новый парадокс!) склонность к деспотизму, характерному для любой массовой идеологии и массовой политической системы. Тайная связь между провозглашаемым равенством и деспотизмом установилась давно, еще Шатобриан подчеркнул эту тенденцию применительно к ситуации Французской революции: «Повседневный опыт заставляет признать, что французы бесспорно устремляются к власти, они нисколько не дорожат свободой, их идеал – равенство. Между тем равенство и деспотизм соединены тайными узами»[11 - Цит. по: Психология толпы. С. 71.]. Равенство выдвигается в качестве лозунга, посредством которого стремятся обеспечить стабильность общества масс, ведь массой становятся, именно предполагая равенство (Э. Канетти).
Либеральная и демократическая политика традиционно делает ставку на разум и рациональность, однако массы движимы, прежде всего, своими собственными страстями и заблуждениями («предрассудками», сказал бы Э. Берк, считавший только данный тип сознания способным справиться с неожиданно возникающими жизненными проблемами).
Полагаясь на интеллект, чтобы убеждать, и на расчет, чтобы преодолевать трудности, либералы не учитывают иррационального характера массовой, коллективной психологии: можно предъявлять претензии к интеллекту отдельных людей, но не масс, стихийная сила которых смущает аналитиков. Отсутствие у таких политиков воли к власти и инстинкта, с помощью которого только и можно понять массу, подготавливает новый парадокс, когда призыв к свободе порождает диктатуру, а демократия открывает путь тирану. В сфере политики только иррациональное имеет отношение к поведению массы, «разум – это приговор политике, а политика – могила разума». Там, где начинаются массы, кончается рациональное, и поскольку объектом политики могут быть только массы, то рациональность для политика – лишь помеха.
Иррациональное – характерный признак массы, это – новое явление для политических систем, построенных на рациональности, демократизме и либерализме. В «цивилизованном» обществе массы возрождают иррациональность: вытесненная из экономической сферы наукой и техникой, она сосредоточивается в сфере власти, становясь ее стержнем[12 - Московичи С. Век толпы. Исторический трактат по психологии масс. С. 59, 61.]. Если отношения людей к вещам могут быть построены и проанализированы на началах рациональности, то отношения между людьми всегда сопровождаются значительной долей иррационального, и на этом допущении строятся как психология масс, так и политика массового, т. е. современного, общества.
Кроме того, власть имеет здесь не только иррациональный, но и скрытый, латентный характер. С. Московичи называет «западным деспотизмом» тип властвования, основанный не столько на монополии производства, сколько на монополии на средства коммуникаций. Захват орудий влияния или внушения обеспечивает политическому режиму невидимую власть над доверчивыми, импульсивными и внушаемыми по своей природе массами. «Видимое господство подменяется духовным, незримым господством, от которого невозможно защититься»[13 - Там же. С. 75.]. Сами же массы оказываются царящими, но не правящими, с неотвратимой неизбежностью в их среде развивается тяга к деспотизму, и ее результатом становится рождение тирана.
М. Фуко заметил, что в новейшее время сам тип властвования претерпевает существенные изменения: право захвата перестает быть «преимущественной формой, но оказывается лишь одним из элементов наряду с другими, обладающими функциями побуждения, усиления, контроля, надзора, умножения и организации сил, которые власть себе подчиняет – власть, предназначенная скорее для того, чтобы силы производить, заставлять их расти и их упорядочивать, нежели для того, чтобы ставить им заслон, заставлять их покориться или их разрушить»[14 - Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. С. 240.]. Все это и является фрагментами более широкого понятия «влияние», заменяющего брутальное представление о власти – насилии.
Массовые лидеры давно поняли, что в толпе намного эффективнее обращаться не к интеллекту, не к понятливости массового человека, а к чувствам любви, ненависти, мстительности, виновности, которые остро ощущает толпа. Вместо того, чтобы будить ее разум, следует будить ее память. Коллективной памятью массы является миф. Эрнст Кассирер писал: «Проблемы, не замеченные политическими мыслителями XVIII и XIX веков, неожиданно вышли на первый план. Самой важной и вызывающей беспокойство чертой эволюции современного политического мышления становится, быть может, появление новой власти: мифического мышления»[15 - Цит. по: Московичи С. Век толпы. Исторический трактат по психологии масс. С. 57.]. Масса формируется под воздействием общих верований и страстей, она объединяется в некое состояние высшей убежденности в истинности своих заблуждений. Персонификацией страсти и идей массы становится некая персона, лидер, наиболее адекватно выражающий ее собственные представления. Обезличенная масса объединяется вокруг идеи, чаще всего принимающей форму некоей «догматической религии», максимально адаптированной для всеобщего восприятия. Характерно, что на всем протяжении истории в одних и тех же условиях власть проявляется и действует одними и теми же методами: в том, что касается власти, «прошлое господствует над настоящим, мертвая традиция опутывает живую современность»[16 - Там же. С. 163.]. Поэтому и массовая политика построена на древних и скрытых от сознания архетипах, поэтому прогресс, столь свойственный и заметный в технике и экономике, полностью отсутствует в политике, т. е. в сфере властвования.
Верования толпы всегда имеют религиозную форму с соответствующими признаками: слепым подчинением, нетерпимостью, потребностью в религиозной пропаганде и т. п. Верования, идеи управляют массами при посредстве вождей, «идеи управляют массами, но масса с идеями неуправляема. Чтобы решить эту насущную задачу, произвести эту алхимию, необходима определенная категория людей. Они преобразуют взгляды, основанные на чьих-то рациональных соображениях, в действие всеобщей страсти. С их помощью идея становится материальной»[17 - Там же. С. 175–176.].
Лидер осуществляет власть над толпой, используя не насилие, а ее верования. Вождь убежден в истинности идеи, с которой он неразрывен, зато он полностью утрачивает контакты с реальным миром и своими близкими. Любое его действие направлено на достижение любой ценой победы, не его личной, но победы его идеи, доктрины, религии, веры. Удаленность лидеров от мира и друзей, от взаимности подчеркивает атмосферу тайны, питающей иллюзии относительно их самих, которые рождаются в массе. «Завеса тайны, скрывающая их, всегда украшена какими-то представлениями, как театральный занавес масками и драматическими сценами… Тайна, которой они облекают свои действия и решения, выводит их за рамки обычного… Вера толпы вынашивает эту тайну, приукрашивает образ, который она хочет себе создать». Обе стороны своими действиями усугубляют ситуацию, в которой авторитет оказывается не более чем «разделенной иллюзией».
Важнейшим архетипом власти является модификация отцовской власти: лидер и вождь – всегда «отцы нации». Поэтому массы стихийно стремятся вовсе не к демократии, как предполагают либеральные интеллектуалы, а к деспотизму, сильной власти, подчинению. (В системе «демократического деспотизма» отцовские черты скрыты под личиной «брата», символа народного равенства. Братская ипостась лидера позволяет ему быть одновременно повелителем, деспотом, господином своих подданных и их же защитником от деспотизма могущественного государства, которое он же сам и олицетворяет).
Тиран не приходит сам, его жаждут и призывают массы. Они желают так же искренне заблуждаться на счет его истинных качеств и целей, как дети убеждены во всесилии и всезнании отца. Они готовы раскаиваться и даже требуют себе наказаний от него. И вместе с тем они пристально наблюдают за ним, ревниво и ворчливо оценивая его действия по отношению к «Родине-матери», нации, всегда готовые к взрыву иррационального и спонтанного гнева. Но сила и авторитет держат их в повиновении.
Поскольку толпа, масса существует «автоматически», будучи нечувствительной к противоречиям и нуждающейся в повторяемости направленных к ней обращений, она особенно чувствительна к простым ответам на свои вопросы, реагирует на то, что поражает ее память: именно те положения, «смысл которых менее всего определен, порой обладают наибольшей действенностью. Таковы, например, термины: “демократия”, “социализм”, “равенство”, “братство” и т. п., чей смысл остается таким туманным, что пухлых томов недостаточно, чтобы его прояснить. И все же действительно магическая сила связана с произнесением слогов, как если бы они содержали решение всех проблем. Они соединяют в себе неосознанные и многообразные чаяния и надежду на их осуществление»[18 - Лебон К. Психология толпы. С. 183.].
Слова и лозунги подстрекают массы к восстанию. Является ли этот акт выступлением детей против отцовской власти? Это – проблема фрейдизма. Сама революция – явление значительно более сложное, это осознавал и Ломброзо, не ограничивавшийся в ее описании только психобиологическими факторами.
Обыденное мышление связывает воедино движение массы и революцию; Лебон настаивает на другом – он утверждает, что массы по своей природе консервативны. Даже когда массы уже поднимаются на баррикады и размахивают красными знаменами, не следует особенно верить их революционным призывам: в действительности они лишь страстно желают вернуться к архаическим основам. И властители должны использовать эту тягу, чтобы вернуть массы к их прошлому (например, мифу нации), от которого они ненадолго освободились. «С помощью ностальгии сердца, прошлой славы, заботы масс о почитании памяти мертвых предотвращается или завершается революция»[19 - Московичи С. Век толпы. Исторический трактат по психологии масс. С. 153–154.].
Массы вполне удовлетворяются демонстрируемым властями фокусом, когда старым учреждениям присваиваются новые названия, слово и знак для толпы имеют значительно большее значение, чем логичное и конструктивное преобразование социальных или политических структур. Так, вера в парламентаризм представляет собой «условную ложь», превратившуюся у большинства воспринимающих ее людей в простую привычку. Столь же условной является вера в равноправие и свободу – просто привилегии прежних сословий незаметно перешли на новое (Ч. Ломброзо называет его представителей «политиканствующими адвокатами»).
«Общественный прогресс», прежде всего его нравственная составляющая, осуществляется весьма медленными темпами, а человеческое общество по своим инстинктам консервативно. Любое подталкивание этого процесса будет вредным и антизаконным. По мнению Ломброзо, это уже не революция (совпадающая у него с эволюцией, осуществляющейся с наименьшим трением и наибольшим результатом), а патологический бунт.
Итак, круг замкнулся: революции привели к власти массы, а установившаяся власть массы кладет конец революционной эпохе. «Пожрав своих детей», революция восстановила новую тиранию и деспотизм. И в этом виноваты сами массы, неспособные предвидеть и рассуждать, ставшие частью природы, неким социальным организмом, больше похожим на машину. Ломброзо убежден в косности и инертности массы и толпы, непредсказуемости ее поведения в мире. Вместе с другими мыслителями, открывшими для себя эту проблему, он тревожно вглядывается во встающий перед ним пугающий феномен: не разрушит ли эта «преступная толпа» ту традиционную систему ценностей и вещей, которая сложилась в Европе и мире, куда она направит свое течение, кто станет ее врагом, какие новые бездны откроются перед ней в грядущем веке? Если врожденные пороки человека смогли вылиться в череду социальных и политических катаклизмов – революций, не будут ли они направлены и против самой среды человеческого обитания?
В предлагаемой читателю работе великого итальянского провидца все эти вопросы остаются без ответа. Тогда еще время ответов не наступило. Прошло сто лет после выхода книги, и нам теперь уже приходится самим отвечать на поставленные Чезаре Ломброзо вопросы.
И. А. Исаев, доктор юридических наук, профессор
Предисловие
Этот ряд преступлений важнее всех других, по крайней мере, для наших современных обществ; он отзывается не только на частных лицах, но и на общем благе и на интернациональном положении страны, и на отношении граждан друг к другу, и на общественной нравственности. Поэтому политические преступления должны быть изучаемы как случаи социальной патологии.
Литтре
Нет, пожалуй, ни одного юридического вопроса, который открывал бы такое широкое поле для составления самых противоречивых теорий, как вопрос о политических преступлениях. Достаточно вспомнить, что многие известные пеналисты, как, например, Lucas, Froebel, Halsher и Carrara доходят до сомнения в существовании последних, как будто бы они не были ярким общественным явлением, повторяющимся во все времена и при всякой форме правления.
Правда, что политические преступления никогда не были изучаемы как таковые: деспотизм, откуда бы он ни шел – от дворца или от улицы – всегда успевал отклонить от них научную критику, присваивая себе их монополию или превращая в оружие против своих противников.
Тому же немало содействовали и те доктринеры свободы, которые, гоняясь более за видимостью, чем за сутью, более за фразами, чем за делом, восставали всякий раз, когда кто-нибудь пробовал прилагать критерии преступлений против общего права к деяниям, несколько отклоняющимся от такого типа, по крайней мере, во всем, что касается намерения.
А между тем мы видим, что с древнейших времен и до наших дней самые свободные нации страшно строго преследуют преступления такого рода: в Афинах, например, всякого, кто только был подозреваем в желании свергнуть народное правление, считали достойным смерти; в Спарте отдавали на жертву адским богам того, кто в народных собраниях говорил или вотировал против республики.
Республиканский Рим рубил головы врагам отечества и народа римского (perduelis). В Средние века итальянские свободные коммуны, например, Венеция и Флоренция, налагали самые суровые наказания лиц, только подозреваемых в политических замыслах: а в наше время, даже в таких демократических государствах как Северо-Американские Штаты, за нарушение конституции и за политический заговор, проявившийся в деяниях, назначается смертная казнь[20 - Status of New-York. Гл. 1.].
Во всяком случае, следует признать, что если законы даже самых свободных народов не соответствуют в этом отношении историческому и научному прогрессу, то они не согласуются и с современным общественным мнением, по крайней мере, наиболее образованных классов. Последнее, в самом деле, более не оправдывает чересчур строгих мер против политических преступлений, как это проявляется в преувеличенной мягкости приговоров присяжных и в снисходительности избирателей, игнорирующих постановления суда.
Хотя первая идея научного исследования, предлагаемого теперь читателям, явилась у нас на Туринской выставке 1884 г. при обозрении портретов итальянских политических мучеников, а разрабатывалась она людьми, которых трудно подозревать в ретроградных стремлениях, мы не были удивлены кампанией, начатой против нас даже самыми доблестными из наших товарищей по оружию[21 - См.: Actes du congres d’anthropologie criminelle. Rome, 1887.]. Мы так хорошо понимаем гуманные мотивы, которыми они руководствуются, что и сами разделили бы их чувства, если бы холодный рассудок и научная объективность не одержали победы над первым порывом, заставившим нас симпатизировать более предполагаемым преступникам, чем их судьям.
Если можно сравнивать малое с великим, то мы, пожалуй, и сами принадлежим к числу таких преступников, потому что искать причины преступности, значит, вносить такие изменения в старые правовые понятия, которые сами по себе могли бы, в иное время и в иных странах, считаться преступными; да и были бы таковыми в юридическом смысле слова, если бы мы захотели слишком самоуверенно и при помощи средств посторонних наук ввести их в практику.
Кроме того, мы теперь же соглашаемся, что слово преступник в приложении к совершителям политических проступков должно казаться неподходящим, в особенности, если их смешивать с преступниками врожденными. Эти последние входят, правда, в контингент лиц, совершающих политические преступления, но в очень ограниченном количестве и с такими особенностями, что их тотчас же можно отличить от массы весьма почтенных деятелей, к числу которых они примешиваются.
Но мы должны все-таки держаться технического названия, хотя и признаем, что политический преступник является таковым только с юридической точки зрения, а отнюдь не с нравственной или социальной.
Правда, что с каждым днем данный вопрос становится все менее и менее важным. Если мнение Спенсера насчет того, что «преступление против общего права должно исчезнуть со временем», есть результат иллюзии, то не в приложении к преступлению политическому. Это уже начинает проявляться в мягкости, если не буквы современных законов, то их духа, и уж, во всяком случае, в общем чувстве, в общем мнении, поддерживающем законы и реформы при согласии с ними или отрицающим их, при несогласии. Очевидное доказательство этому мы имеем в постоянном уменьшении числа поступков, считающихся политическими преступлениями в просвещенных странах Европы.
Дело в том, что, с одной стороны, теперь начинают понимать, что между революцией и бунтом (rebellion) существует такая же громадная разница, как между эволюцией и катаклизмом, натуральным ростом и болезненной опухолью; что между ними больше антагонизма, чем аналогии, что революции и восстания представляют почти полную противоположность друг другу. Последние, будучи бесплодными даже тогда, когда руководятся намерениями, не имеющими в себе ничего преступного, должны быть, следовательно, поставлены в разряд преступлений, которые хотя и совершаются вследствие честных побуждений, но не могут избежать преследований закона.
С другой стороны, целый ряд причин, делавших в прошлом политические преступления почти постоянными – таких, например, как угнетение национальностей и религиозная нетерпимость – постепенно уничтожается, или, по крайней мере, сокращается, а потому сокращается и реакция, которую они вызывали.
Нельзя, однако же, сказать, чтобы эти причины совершенно исчезли, отчасти потому, что рядом с нами – счастливыми в этом отношении – стонут народы, которым отказано в свободе мысли и праве политического самоопределения, а отчасти потому, что даже и у нас человеческая природа является неудовлетворимой – насыщение не всегда ее успокаивает, а иногда развивает новые, беспорядочные аппетиты, по крайней мере, у той группы людей, которую невроз или житейские разочарования сделали неспособными к спокойствию.
Правда, что многие из последних, делаясь виновными в настоящих преступлениях, бессознательно совершают доброе дело, потому что указывают нам на неудовлетворенные нужды или ускоряют события, которые иначе совершились бы гораздо позднее. Чаще, однако, они просто живут в болезненном бреду среди противоречивых проектов, подобно мыльным пузырям блещущим всеми цветами радуги, но лопающимся от малейшего прикосновения.
В самом деле, вслед за республиканцем и социалистом, имеющими историческое или экономическое право на существование, появляются коммунист и анархист, совершенно отвергающие государство, отрицающие даже обязанности гражданина и стремящиеся одним ударом разрушить все связи, делающие современного человека сравнительно счастливым.
Но ведь никто же не пойдет за ними так далеко.
Нам следует, стало быть, заняться изысканием, существует ли, помимо злоупотреблений деспотизма, политическое преступление, приносящее обществу вред и, следовательно, влекущее за собой ответственность перед законом. А если такое преступление существует, то в чем оно состоит по отношению к политическому организму и правам граждан, входящих в состав последнего.
Если бы мы при этом изыскании стали следовать по протоптанным тропинкам древних понятий о праве, то должны бы были начать с априористического определения, опирающегося на какие-нибудь древние цитаты, а затем, исходя от него, подобно пауку, ткущему свои нити, и с такой же прочностью продолжать ткать основы нашей работы. Но так как для нас преступник важнее преступления, то мы дадим определение последнего – составляющего для нас, во всяком случае, дело второстепенное, только после основанного на криминальной антропологии и истории изложения факторов этого нового вида преступности.
Что касается приложения наших теорий к жизни, то есть политических и социальных реформ, то мы не скроем, что многие поверхностные критики сочтут нашу попытку бесполезной потому только, что мы допускаем врожденность преступности. Но рассуждать таким образом значило бы, по прекрасному сравнению Signele[22 - Archivio Giuridico. Флоренция, 1891.], то же самое, что отвергать всякую возможность улучшения земледелия, поэтому только, что мы не можем застраховать себя от молнии и града. В природе существуют случайности и менее неустранимые, чем град и молния, а с ними, к счастью, человек может бороться. Точно так же и в общественной среде есть враги более многочисленные и менее закоренелые, чем прирожденные преступники, а потому в борьбе с этими врагами постоянная и просвещенная предусмотрительность может много чего сделать. Да и, кроме того, в среде народа покойного и довольного своими учреждениями, всякая политическая попытка прирожденных преступников останется безрезультатной.
Пробуя разрешить некоторые из великих исторических социальных задач, занимающих внимание ученых и мыслителей, мы старались быть объективными. Мы заставили молчать в себе всякие предвзятые чувства, одинаково не подчиняясь как симпатиям, так и антипатиям. Будем надеяться, что и читатель поступит так же, что перед решением вопросов такой громадной важности он сбросит с себя предрассудки, присущие его партии, его народности и даже его веку. Перед лицом исторической эволюции один век – лишь секунда.